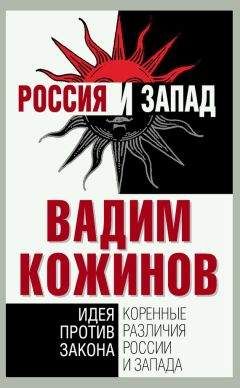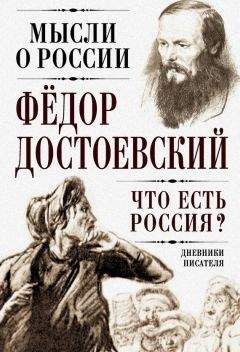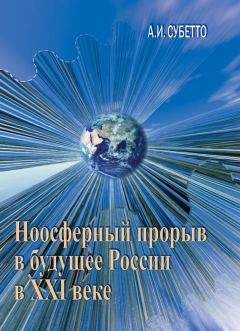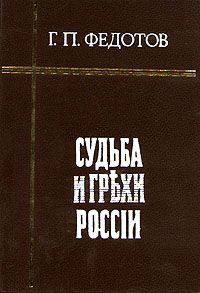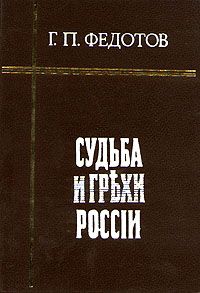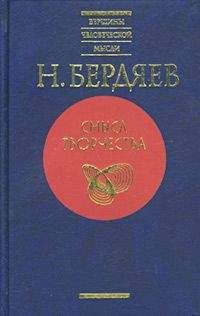Георгий Федотов - Судьба и грехи России
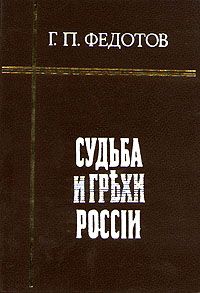
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Судьба и грехи России"
Описание и краткое содержание "Судьба и грехи России" читать бесплатно онлайн.
Федотов Георгий Петрович(1886 - 1951 гг.) — выдающийся русский мыслитель и историк. Его научные интересы были сосредоточенны на средневековом и древнерусском христианстве. Был близок к Бердяеву и св. Марии (Скобцовой). Защитник свободы и честности в Церкви, мысли, обществе.
Федотов Г.П., Судьба и грехи России /избранные статьи по философии русской истории и культуры/
«Неистощимый клеветою» искуситель отрицает все святыни, на которых покоилась религия пушкинского гуманизма:
Он вдохновенье презирал,
Не верил он любви, свободе...
Отрицание свободы для Пушкина равносильно с клеветой на Провидение. И, тем не менее, Пушкин признается, что он подпадает под власть этих искушений («вливая в душу хладный яд»).
Свобода не теряла для Пушкина своей священности в то время, когда он прощался с ней. Его последнее обращение к морю, как мы указали уже, имеет своей темой свободу, то есть мятежную, революционную стихию, к которой он рвался так страстно — в греческом ли восстании или в декабристском заговоре. Не об этой ли «свободной стихии» Пушкин мечтает, бессознательно (как бы обертоном), говоря о своих несбывшихся надеждах:
Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег...
Эта твердая почва, на которой он стоит, —. почва России, быта, консерватизма, — не имеет еще для него ни малейшей прелести. Но свобода неосуществима, и мир постыл — именно потому, что в нем нет места свободе:
Мир опустел...
Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль самовластье, иль тиран.
Эту мысль он повторяет — только с еще большей горечью, на этот раз обращенной к самой изменчивой стихии моря, — в 1826 году в письме к кн. П. А. Вяземскому:
==158 Г. П. Федотов
Не славь его! В наш гнусный век
Седой Нептун — земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.
Хорошо известен политический намек, заключающийся в этих словах (слух об аресте Н. И. Тургенева), и совершенно ясно, что, обвиняя море, Пушкин еще не предпочитает ему суши, и что величайшими преступлениями для него являются те, которые совершаются против свободы.
Много лет пройдет, пока в «Медном всаднике» (1832) Пушкин не увидит в ярости бушующей водной стихии злую силу и не станет против нее с Петром:
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия!
Что в Пушкине жив, и после прощания с морем, этот свободы, хорошо видно из «Андрея Шенье», написанного им «на суше», в Михайловском, в период «Бориса Годунова» (1825). Это стихотворение совершенно подобно «Вольности» и «Кинжалу» в своей двусторонней направленности против тирании царей и народа. Замечательно, что гибнущий под революционным топором поэт, — а с ним и Пушкин — не смеет бросить обвинения самой свободе, во имя которой неистовствуют палачи:
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет не виновна ты...
В 1825 году Пушкин на распутье. Позади море, юг, революция — перед ним Михайловское, деревня, Россия. Нет сомнения, что его развитие в сторону «свободного консерватизма» было предопределено. Но в этот медленный, органический рост его нового чувства России 14 декабря упало, как молния. Оно сильно запутало и исказило ясность пушкинского пути. Оно заставило поэта принять решение, сделать выбор — для него, быть может, преждевременный. Оно стало исходным пунктом ложного положения, в котором Пушкин мучился всю свою жизнь. Это положение можно было бы охарактеризовать кратко: поднадзорный камер-юнкер — или певец Империи, преследуемый до самого конца за неистребимый дух свободы.
Корни пушкинского консерватизма — вполне предопре-
ПЕВЕЦ ИМПЕРИИ И СВОБОДЫ
==159
деленного — многообразны и сложны. В главном он связан, конечно, с «поумнением» Пушкина: с возросшим опытом, с трезвым взглядом на Россию, на ее политические возможности, на роль ее исторической власти. Личный опыт и личный ум при этом оказываются в гармонии с основным и мощным потоком русской мысли. Это течение — от Карамзина к Погодину — легко забывается нами за блестящей вспышкой либерализма 20-х годов. А между тем национально-консервативное течение было, несомненно, и более глубоким и органически выросшим. Оно являлось, прежде всего, реакцией на европеизм XVIII века, могущественно поддержанной атмосферой 1812 года. У его истоков — «История государства Российского», в завершении — русские песни Киреевского, словарь Даля, молодая русская этнография николаевских лет. «Народность» не была только официальным лозунгом гр. Уварова. Она удовлетворяла глубокой национальной потребности общества. И Пушкин принял участие в творческом изучении русской народности как собиратель народных песен, как создатель «Бориса Годунова» и «Русалки». Мы понимаем, почему он был ближе по своим сочувствиям к Карамзину (несмотря на юношескую эпиграмму), чем к Каченовскому, к Погодину, чем к Полевому.
Но к этим органическим и оправданным мотивам историческая случайность (14 декабря) присоединяет другие, менее чистые. С одним мы уже познакомились: это скептицизм. Другой явственно и болезненно для нас встает в его письмах: это его естественная, но отнюдь не героическая потребность — определить как можно скорее свою судьбу, вырваться из Михайловского, покончить с прошлым, вступить с правительством в лояльные, договорные отношения. Замечательно, что и этот мотив восходит все к той же свободе — на этот раз личной свободе. Пушкин жаждет вырваться из ссылки, какой бы то ни было ценой: не удастся бегство из России, эмиграция — остается договориться с царем. В этих переговорах все преимущества были на стороне императора. Николай 1 показал себя, как в отношениях с декабристами, превосходным актером, и Пушкин запутался в сетях царя.
Есть полная и печальная аналогия между отношением Пушкина к Н. Н. Гончаровой и отношением его к Нико-
==160 Г.II. Федотов
лаю. Пушкин был прельщен и порабощен навсегда — в одном случае бездушной красотой, в другом — бездушной силой. С доверчивостью и беззащитностью поэта, Пушкин увидел в одной идеал Мадонны, в другом — Великого Петра. И отдал себя обоим добровольно, связав себя словом, обетом верности, обрекавшим его на жизнь, полную терзаний и бессмысленных унижений. Но как понятен источник роковой ошибки. Поэт, наскучивший своей бездомностью и скитальчеством, хочет иметь, родину, семью, быть певцом родной земли и вкусить лояльной, не блуждающей любви. Возьмем первую тему. Доселе он воспевал императоров XVIII века, носите лей свободы, и проклинал царей своего времени — Павла, Александра, изменивших ей. Почему же новый царь не может вернуться к благородной традиции свободолюбивой Империи? Пушкин не изменяет себе, он лишь хочет сковать в одно две свои верности, две политические темы своей музы: Империю и Свободу. «Стансы» Николаю, его поэтический договор с царем, где он предлагает ему идеал Петра, — разве это измена? Пушкин долго живет надежда ми, ловит в словах нового самодержца проблески просвещенной доброй воли; ошибаясь, бранится, будирует, но не разрывает новой лояльности.
Впрочем, отношения Пушкина к Николаю 1 слишком сложны, чтобы их исчерпать в нескольких строках. Столь же сложен, стал образ свободы у Пушкина в последнее десятилетие его жизни. С уверенностью можно сказать, что поэт никогда не изменил ей. Со всей силой он утверждает ее для своего творчества. Тема свободы поэта от «черни», общественного мнения, от властей и народа становится преобладающей в его общественной лирике. Иной раз она звучит лично, эгоистически: «себе лишь одному служить и угождать», иной раз пророчески-самоотверженно. Но рядом с этой личной свободой поэта не умирает, хотя и приглушается, другая, политическая тема. Все чаще она, ни когда не имевшая демократического характера, получает аристократическое обличие. Впрочем, этот аристократический либерализм Пушкина оставил больше следа в его заметках и письмах (рассуждения о дворянстве, замечания вел. кн. Михаилу Николаевичу о Романовых-niveleurs), чем в поэзии. Нельзя, впрочем, не найти в «Борисе Годунове»
ПЕВЕЦ ИМПЕРИИ И СВОБОДЫ
==161
отражения собственных политических идей поэта хотя бы в словах фрондирующего Пушкина, его предка, или в по хвалах кн. Курбскому.
Наконец, нельзя не видеть сжатого под очень высоким «имперским» давлением пафоса свободы в пушкинском «Пугачеве». Неслучайно, конечно, Стенька Разин и Пугачев, наряду с Петром Великим, более всего влекли к себе историческую лиру Пушкина. В зрелые годы он никогда не стал бы певцом русского бунта, «бессмысленного и беспощадного». Но он и не пожелал бросить Пугачева под ноги Михельсону и даже Суворову. В «Капитанской дочке» два политических центра: Пугачев и Екатерина, и оба они нарисованы с явным сочувствием. Пушкин, бесспорно, любил Пугачева за то же, за что он любил Байрона и Наполеона: за смелость, за силу, за проблески великодушия. Пугачев, рассказывающий с «диким вдохновением» калмыцкую сказку об орле и вороне: «чем триста лет питаться падалью, лучше один раз напиться живой крови», — это клич к пушкинскому увлечению. Оно порукой за то, что Пушкин, строитель русской Империи, никогда не мог бы сбросить со счетов русской, хотя бы и дикой, воли. Русская воля и западное просвещение проводят грань между пушкинским консерватизмом, его Империей и николаевским или погодинским государством Российским.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Судьба и грехи России"
Книги похожие на "Судьба и грехи России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Федотов - Судьба и грехи России"
Отзывы читателей о книге "Судьба и грехи России", комментарии и мнения людей о произведении.