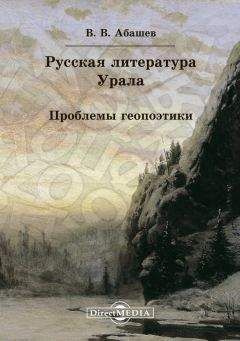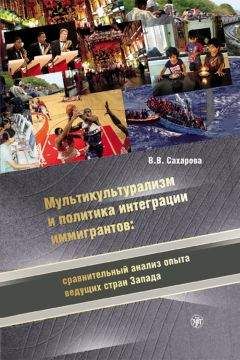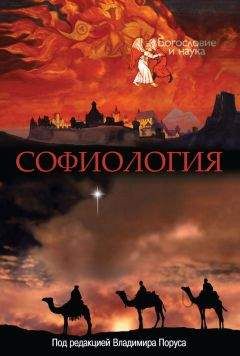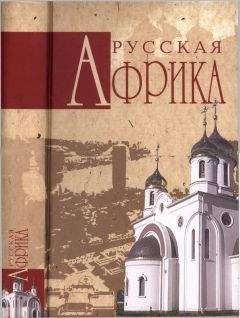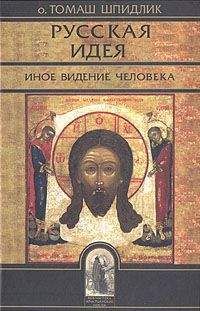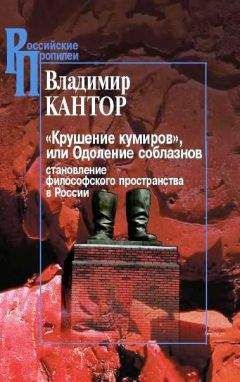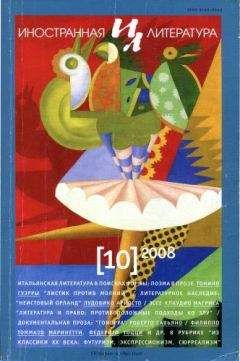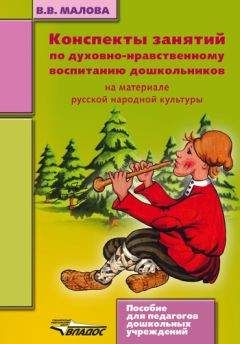Вера Еремина - Классическая русская литература в свете Христовой правды
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Классическая русская литература в свете Христовой правды"
Описание и краткое содержание "Классическая русская литература в свете Христовой правды" читать бесплатно онлайн.
А шукшинский герой рассуждает и рассуждение оказывается до последней степени убогим. Рассуждение оказывается такое, что де “теперь меня же в деревне засмеют и ни одна баба к себе не подпустит”. То есть, он почему-то убежден, что в этой системе великодушие смешно. Нет ни одного проблеска, что он наказан за дело; он оскорблён, оскорбление не отомщено (в этом смысле, как и у Сильвио). И, наконец, приходит во второй раз, предупредить мужа, что “я тебя встречу одного и тогда посчитаемся”.
После этого он ищет место: в начале приходит на кладбище, но сами кресты кладбищенские служат для него укором; тогда едет в дальний рейс и застреливается посреди цветущей полянки.
После этого рассказа уже видно, что такое Шукшин. Как и многие его собратья по перу, как и Тургенев, как и Толстой, в лучших своих произведениях они несомненно умнее самих себя. Это маленькое, почти подспудное веяние, что кладбище обличает – это, конечно, то, что лишний раз свидетельствует, что творческие энергии – энергии Духа Святого. Но если у человека его человеческий дух в рабстве у эмонациональной части души, то рассуждающая часть разумной души наполовину атрофирована и поэтому сам осмыслить своего творческого опыта он часто не может.
(У Платона в “Апологии Сократа” – Сократ развивает эту точку зрения и настаивает на том, что поэты – это одержимые и поэтому философ должен знать поэта лучше, чем сам поэт. И, в сущности, от Платона до М.О. Гершензона – все критики стоят на том. Гершензон в споре с Ходасевичем, когда ему говорят, что, ведь, сам Пушкин! – Ну и что же, я не могу не знать о Пушкине больше, чем он сам, потому что я знаю и то, что он хотел сказать, и то, что он хотел скрыть, и то, что он произносил бессознательно).
Рассказ “Залётный”.
“Залётный” – это человек, прибившийся к деревне и, конечно, никогда не могущий войти в это деревенское сообщество. Он живёт в деревне, но не заводит даже огорода – он абсолютно не способен ковыряться в земле. (В отличие даже от солженицынского героя, дяди Авенира. Почему дяде Авениру удаётся спрятаться даже на окраине Твери? Потому, что, во-первых, ему 70 лет и он уже не должен ходить на работу (с пенсией ли или без пенсии) – работает жена медсестрой; во-вторых, он ковыряется на земле и единственное выражение лояльности, которое от него требуется, – это вывешивать по праздникам красный флаг. Но это как все – все домовладельцы вывешивали красный флаг).
Шукшин рассматривает хрущевскую ситуацию, когда уже такой авторитарности нет. От Залётного никто не требует, чтобы он вывешивал флаг; вообще никому нет дела до его личных качеств и уж, тем более, до его идеологии. Его ненавидят бабы, потому что попивает и привечает мужиков – все боятся, что он вот-вот начнёт их спаивать. Бабы ненавидят по естественному чувству самосохранения, так как защищают свой дом.
А почему прибиваются мужики? – Выпить-то можно и в чайной. Но что-то их сюда привлекает, какие-то странные слова, не здешние, которые он говорит. Наконец, он приговорён и врачами и своей сомой (каких только на нём не было операций), но он в этом вопле, который к Богу не обращён, в воздух – восклицает: “Пожить бы хотя бы ещё полгодика”. Хотя - чтó для такого человека может измениться за полгода?
Шукшин пишет о людях, которые ещё не дошли до понятия покаяния. Покаяние по-гречески – метанойя, то есть изменение образа мышления. Герои Шукшина – это люди, которые остановились где-то посередине. Отчасти – это и “навоз в проруби”, это люди, которые от одних отстали, а к другим не пристали; это люди, которые советскими уже не станут никогда, но которым ещё очень далеко до людей церковных и обретших новый смысл жизни во Христе.
Этого смысла, конечно же, не обретёт и сам Шукшин. Он будет искать, в сущности, какого-то социального лица и, в сущности, почти Сураза. Шукшин будет пробовать силы в кино; будет пробовать силы даже в актёрстве (“Калина красная”); он будет оттаптывать себе место в качестве признанного аутсайдера, допущенного аутсайдера, который как бы отвоевал себе право на существование в этом (поскольку нет другого) советском социуме.
Как раз брежневская эпоха с ее политикой государственной безнадёжности такие вещи допускала, так же, как и допущено было не только его участие в кино, но почти что он становится и киноворотилой, так как он сам и режиссёр. Во всяком случае, его признают; и даже, чтó вообще для советского режима дело не частое, признают его право на особое мнение.
Лекция №32 (№67).
Василий Макарович Шукшин – свидетель о страшных делах, в стране творящихся.
1. Баллада о неверующем священнике (“Верую”).
2. Баллада о беглом каторжнике (“Охота жить”).
3. Малый просвет (“Нечаянный выстрел”).
У Гоголя в повести “Страшная месть” – сказано, что старики качают головами, “размышляя о страшном, в старину случившемся деле”. Так вот, мы и будем размышлять о страшных делах, которые совершались в нашу эпоху, хотя, может быть, и не на наших глазах. Это свойство всех страшных дел, которые всегда совершаются как-то не на глазах – в некоей темноте.
Кое о чём нам засвидетельствует название, а именно: баллада о неверующем священнике и рассказ называется “Верую”. Во что верует этот священник? В то, чтó объективно, как он выражается: в освоение космоса; в механизацию сельского хозяйства; в научную революцию; в космос и в невесомость – это всё диктует священник людям, таким, как герой рассказа Максим Яршов, которые собрались около него со своей болью и которые ищут у него пастырского утешения.
И вот они уже вместе орут – верую, “что скоро все соберутся в большие вонючие города”; верую, “что задохнутся там и побегут опять в чисто поле”; верую “в барсучье сало”. (У священника чахотка и он пользуется народным средством - барсучьим салом и для этого родственник жены Илья Лапшин отстреливает для него барсуков, разумеется, нелегально). “Верую в бычачий рог, в стоячую оглоблю; в плоть и мякоть телесную”.
“Когда Илюха Лапшин продрал глаза (спьяну, конечно)”, он увидел; громадина поп, можно сказать, “кидал по горнице” мощное тело своё, бросался с маху в присядку и орал и нахлопывал себя по бокам и по груди – “эх, верую, верую - туды, туды, туды, раз! верую, верую - мпам-бам-бам, два! верую, верую!” А вокруг попа, подбоченясь, “мелко работал” Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил – утя-утя-утя, три; верую, верую; етя-етя, все четыре. “За мной, - восклицал поп, – верую, верую!”
“Оба, поп и Максим, плясали с какой-то злостью, с таким остервененьем, что не казалось и странным, что они пляшут – тут или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать и скрипеть зубами.
Илюха посмотрел, посмотрел и пристроился плясать тоже. Но только время от времени тоненько кричал – и-и-ха, и-и-ха – он не знал слов. Рубаха на попе на спине взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц, он, видно, не знал усталости вовсе и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы.
Их, наверное, не так легко перекусить – раньше он всех барсуков слопает, а надо будет, если ему посоветуют, попросит принести волка пожирней, он так просто не уйдет. “За мной!” - опять велел поп. И трое во главе с яростным раскалённым попом пошли приплясывая кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга; прогнул половицы; на столе задребезжали тарелки и стаканы – э-эх, верую, верую”.
Это будет пострашней Солженицына, пострашней всех его расстрелов, всей его “мужичьей чумы”. Солженицын, собственно, говорит о вещах, которые так или иначе, находятся в каком-то контексте: они легко вписываются в контекст эпохи; злой революции, хорошего русского народа, большевиков – насильников, и так далее; точнее, они укладываются в этакую мелководную концепцию, для мелкой рыбешки.
Всю эту, так сказать, бодягу Солженицына можно вписать и расписать, а этот рассказ потому и страшен, что он ставит такие вопросы, на которые такая концепция действительность ответа не знает.
Рассказ “Верую” написан в 1971 году, это значит, что только только скончался (17 апреля 1970 года) патриарх Алексий I; был назначен местоблюститель Пимен и в июле 1971 года был избран и патриархом.
Вообще говоря, на месте Шукшина можно было отпечатать этот рассказик отдельной брошюрой и послать ее прямо в Чистый переулок патриарху Пимену (Извекову). По сравнению с этим открытые письма Солженицына патриарху Пимену – в сущности, детский лепет, так как он требует от патриарха того, чего он заведомо тогда не мог исполнить.
В то время духовных школ было всего три: Московская, Ленинградская и Одесская, притом Одесская семинария без академии. Киевская семинария открылась только в год 1000-летия крещения Руси в 1988 году. (Киевская семинария была закрыта при Хрущеве, как и Минская и Волынская – Хрущев закрыл пять семинарий, осталось только три).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Классическая русская литература в свете Христовой правды"
Книги похожие на "Классическая русская литература в свете Христовой правды" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вера Еремина - Классическая русская литература в свете Христовой правды"
Отзывы читателей о книге "Классическая русская литература в свете Христовой правды", комментарии и мнения людей о произведении.