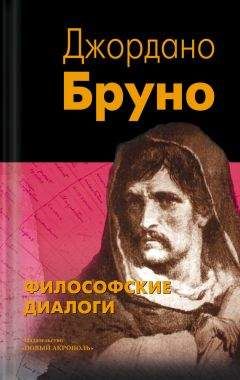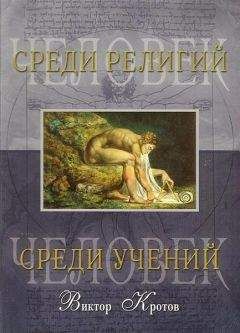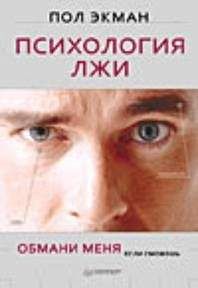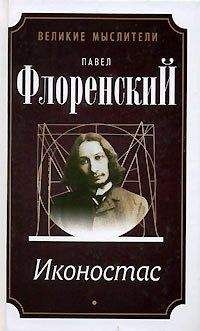Михаил Петров - Судьба философа в интерьере эпохи.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Судьба философа в интерьере эпохи."
Описание и краткое содержание "Судьба философа в интерьере эпохи." читать бесплатно онлайн.
Все написанное Михаилом Константиновичем проникнуто пафосом критики социального фетишизма, в условиях которого возникает убеждение, будто бы человек обязан различным институтам, знаковым системам и структурам всем, а сами они могут обойтись без человека, обладают способностью к саморазвитию. Такое убеждение порождает социальную пассивность, упование на "колесо истории", притупляет чувство личной ответственности за все, что делается здесь и теперь.
Петров Михаил Константинович
Историко-философские исследования.
М., 1996.
512 с.
Итак, наш третий пример участия языка в формировании предмета философии при всей его гипотетичности, что мы охотно признаем - исследований здесь почти нет, может все же уточнить выводы первых двух примеров в том смысле, что на состав и структуру предмета философии, на ее категориальный аппарат влияют отдельные стороны, структуры, модели не языка вообще, а языка конкретного, с присущей ему спецификой, если, конечно, сложившийся комплекс условий и обстоятельств делает это влияние возможным.
4. ЯЗЫК И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Одна из примечательных особенностей рабочей ретроспекции в отличие от догадничества, которое попросту переносит понятия и концепты современности в исторические дали, состоит в том, что любое новое, будь то открытие в физике или новая формулировка в философии, в любой другой дисциплине, вызывает своеобразную цепную реакцию поисков подобия в прошлом данной дисциплины, пересмотр прошлого ради связи нового с наличным и перевода нового в наличное. Поиск начинает обычно сам автор нового, которому правила научной дисциплины предписывают то или иное число опор на предшественников (квоты цитирования) как норму дисциплинарного взаимопонимания, и если процесс не переходит в крайности по печально известной триаде освоения нового: открытие ложно - если истинно, то не ново - если истинно и ново, то второстепенно, сам этот поиск оказывается весьма полезным, выделяя в наличном и известном те грани и нюансы, о которых автор мог и не подозревать.
Этот процесс смещения и движения ретроспективы как средства преемственной связи с прошлым и использования наличного массива знания для движения к новому заметен и на более высоком уровне, когда проблемы приходят, так сказать, извне, приходят явочным порядком, и попытки разобраться в них ведут к серьезным сдвигам в предмете и общей ориентации поисков нового. Нам кажется, что один из радикальнейших сдвигов этого рода наблюдается сегодня в истории вообще, и в истории мысли в особенности. Смысл и острота исходной "инициирующей" проблемы понятны: мы живем в мире научно-технической революции, но сама эта революция, к сожалению, носит локальный характер. 90% науки делается сегодня в 14 странах, 99% - в 40, а дальше начинается то, что иногда называют странами "научной пустыни" - более сотни стран с населением свыше 70% мирового, которые сообща дают 1% мирового научного продукта.
Если учесть, что в странах, использующих науку и связанный с ней "индустриальный" способ обновления общественного производства за счет разработки и внедрения новых средств и методов, доход на душу населения в 15-20 раз превышает доход на душу населения в странах научной пустыни и растет, удваиваясь каждые 20-25 лет, тогда как в странах научной пустыни остается прежним или даже снижается, то станет понятной и острота и актуальность стоящей перед миром проблемы вовлечения всех стран в орбиту научно-технической революции. Теоретическое состояние разработки этой проблемы довольно точно фиксируют Дарт и Прадхан: "Считается общепризнанным, что процесс научно-технического развития потребует в Азии, Африке и Южной Америке значительно меньшего времени, чем длительность этого процесса в Европе и Северной Америке. Во многих странах высказывают надежду за одно-два поколения пройти путь изменении, сравнимых с теми, которые потребовали на Западе два или три столетия. Надежда основана частью на доступности помощи в виде капиталовложений со стороны индустриальных стран, частью же на той скорости и легкости, с которой может сегодня передаваться знание, полученное в медленном и длительном процессе со множеством ошибок и заблуждений, которые теперь незачем повторять. В этом социальном оптимизме почти не учитывают наличие огромных социальных и культурных изменений, которыми сопровождалось развитие на Западе, а также и тех социальных и культурных изменений, которыми должна сопровождаться новая научная революция. Часто оказывается, что страна, руководители которой полны решимости ввести быстрые изменения, вовсе не готова принять те способы мысли и организации, которые выступают фундаментальным условием развития науки и техники, а те цели, на которые возлагалось столько надежд, остаются нереализованными" (12, р. 649).
Нет нужды подчеркивать, что культурный и мировоззренческий аспекты неподготовленности "принять те способы мысли и организации, которые выступают фундаментальным условием развития науки и техники", не исчерпывают всего комплекса проблем развивающихся стран уже потому хотя бы, что ряд стран "научной пустыни" принадлежат скорее к европейскому, чем к традиционному или племенному типу культуры. Экономика и политика остаются основным содержанием проблемы, но для значительной группы стран, особенно в Азии, культурно-мировоззренческая сторона дела приобретает подчас настолько острое и актуальное звучание, что отмахиваться от нее становится, на наш взгляд, чем-то сомнительным и даже опасным. Пытаясь методами "косвенного" анализа, а то и простого догадничества прийти примерно к тому же "поразительному" результату, к которому более сорока лет назад пришел Питирим Сорокин и около сорока столетий тому назад Экклесиаст, - объявить всех кошек серыми, а настоящее - "простым повторением" прошлого, мы волей-неволей, независимо от наших желаний и намерений, прячем реальную и жгучую проблему современности, топим ее в рассуждениях о том, насколько все мы представители рода homo sapiens смахиваем друг на друга, забывая о том, что две трети мира живет не по нашим правилам и способно на поступки по совершенно иным ценн стным критериям и мотивам.
Если попробовать двумя словами охарактеризовать эту основную, на наш взгляд, трудность и ее разветвленный корень, то наиболее подходящим термином был бы, нам кажется, наследственный профессионализм как ключевая социальная структура.
Сразу предвидим возражения: наследственный профессионализм вплоть до замкнуто-кастовых форм (Цех, гильдия, сословие) прекрасно известен в Европе как один из наиболее распространенных и ходовых способов структурирования и интеграции социально-необходимой деятельности. Даже университет, этот, выражаясь стилем Гесиода, "приют безопасный" всех мировоззренческих и духовных затей Европы, носил, а кое-где и сохраняет очевидные следы привилегий и цеховщины. Но вся эта флора и фауна европейского профессионализма (достаточно вспомнить о наследственной должности городского палача) предполагает на правах условия и посылки исходную универсальную общность, своего рода "надстройку", "избыточность" - идею человека вообще как чего-то не совпадающего с его профессией, способного быть чем-то и за пределами профессии. Этого универсального синтеза ролей-профессий мы не обнаруживаем в традиции, где есть земледельцы, ремесленники, купцы, государственные служащие, правители, но нет человека вообще, нет идеи равносилия, равенства всех, будь он правителем или бальзамировщиком трупов, в каком-то всеобщем и универсальном человеческом отношении. Исходная для европейского очага культуры "совмещенная" фигура полисного грека: земледельца (ремесленника) - гражданина - воина - писаря, фигура совершенно нереальная для традиции, нечто вроде "землю попашет, попишет стихи", и это всегда вело к взаимным недоразумениям^.
Мы уже не в состоянии мыслить человека в категориях чистого профессионализма без универсализирующей приставки. Подобно тому, как это делали союзники по отношению к спартанцам, мы "дорисовываем" традицию до нашей нормы. Эта наша неспособность мыслить человека без универсализирующего основания создает, похоже, почти непроницаемые шоры, начисто убирающие из поля зрения очевидные, казалось бы, вещи, в том числе и глубочайшее различие знаковых структур традиционного и европейского общества. Даже тот факт, что после известных случаев агонии и гибели традиционных обществ, а всего таких случаев более сотни, следует (с одним-единственным греческим исключением) возникновение и расцвет общества того же традиционного типа, мы все же пытаемся истолковать птолемеевским способом - любыми средствами сохранить традиционный профессионализм и греческий универсализм на единой линии развития.
Традиционный профессионализм характерен тем, что у него нет, собственно, общесоциального "всеобщего" в нашем понимании; хранимое на правах социальной ценности знание имеет здесь профессионально-очаговую структуру, где каждый очаг связан с именем профессионализированного бога и уже эти боги-специалисты входят в связь общесоциальной целостности по кровнородственному основанию, образуя единство-семью типа олимпийской, скажем, или ветхозаветной. Слабость и явная непригодность кровнородственных связей для целей межпрофессиональной коммуникации создает ощутимый изолирующий и различающий эффект. Его можно вскрыть во множестве побочных выявлений от насмешек Гесиода над неразумием земледельца, который берется за дело плотника, рабочего Афины (Труды и дни, 430, 455-456), до постоянного рефрена китайских и индийских источников о необходимости следовать правилам сословия или касты.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Судьба философа в интерьере эпохи."
Книги похожие на "Судьба философа в интерьере эпохи." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Петров - Судьба философа в интерьере эпохи."
Отзывы читателей о книге "Судьба философа в интерьере эпохи.", комментарии и мнения людей о произведении.