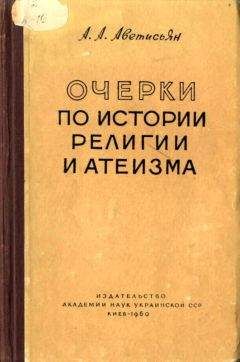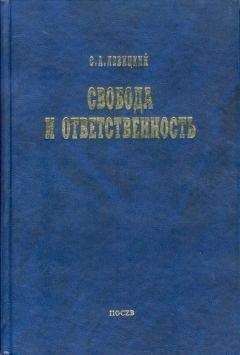С. Левицкий - Очерки по истории русской философии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Очерки по истории русской философии"
Описание и краткое содержание "Очерки по истории русской философии" читать бесплатно онлайн.
Но двадцатью годами позже, уже прожив на Западе долгое время, Герцен писал совсем в другом тоне: «Во взглядах славянофилов — и это я оценил позже —была доля тех горьких подавляющих истин об общественном состоянии Запада, до которых мы дошли лишь позднее». Правда славянофильства была предана в течение долгого времени забвению или искажению. Только с наступлением русского религиозно-философского ренессанса было вспомянуто о заслугах раннего славянофильства (работы Н.Бердяева о Хомякове, Гершензона о Киреевском). Но эта реабилитация славянофилов недостаточно внедрилась в сознание русской общественности. В Советском Союзе о славянофилах упоминается в лучшем случае вкратце, обычно в клеветнически искажающих тонах. Славянофилов нельзя не критиковать, и многие их ошибки видны теперь во весь рост. Но нельзя забы вать, что они явились пионерами русской философии и будителями русской мысли. И Ивану Киреевскому принадлежит львиная доля заслуг в этом великом деле.
МЛАДШИЕ СЛАВЯНОФИЛЫ
Хотя основы славянофильства были заложены Киреевским и Хомяковым, важную роль в окончательном оформлении и популяризации этого движения играли так называемые «младшие славянофилы» — прежде всего Константин Сергеевич Аксаков и Юрий Федорович Самарин.
Упоминавшийся уже выше К.Аксаков (1817—1860) приобрел известность своей диссертацией о Ломоносове и своими работами по русскому языку. Но ему принадлежит также важная роль в популяризации славянофильского учения. При этой популяризации он допускал многие упрощения, вследствие чего бывал нередко мишенью нападок западников. Он был менее утончен, но более прямолинеен в своих славянофильских концепциях. Из бытовых деталей отметим, что он любил ходить в стариннорусском костюме, вследствие чего, по ироническому замечанию одного из критиков, народ принимал его иногда за персиянина. Но Аксаков внес много важных дополнений и формулировок в славянофильство. Он удачно выразил дух критики славянофилами Запада в своей формуле «на Западе душа убывает». Он же ввел термин «хоровое начало» для характеристики хомяковского учения о «соборности». Противоположение социальной сферы — государственной, при примате первой, перенятое затем народниками, было также сформулировано им. Не менее важную роль в судьбах славянофильства сыграл Юрий Самарин (1819—1876). Его диссертация о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче обратила на себя внимание. Публичное издание этой диссертации было временно запрещено ввиду обвинения Феофана (а, следовательно, и Синода) — в протестантском уклоне. За осуждение им в «Письмах из Риги» покровительства, оказываемого правительством балтийским немцам, Самарин был арестован, но вскоре выпущен на свободу. Вообще его воинствующие либерально-славянофильские воззрения вызвали оппозицию у властей. Хотя сам Самарин был убежденным монархистом, он выступал сторонником постепенных реформ и сыграл немалую роль в подготовке реформы освобождения крестьян. Состоя на правительственной службе, он сделался признанным специалистом по финансовым вопросам. Философии он уделял лишь часть своего времени, но немногое написанное им в этой области полно значения. В ранней молодости Самарин до того увлекся Гегелем, что хотел «обосновать православие Гегелем». Но после сближения с Хомяковым в начале сороковых годов он сделался верным последователем Хомякова, после смерти которого он считался многими его законным преемником на неофициальном посту главы славянофильского движения. В своем вдохновенном предисловии к богословским .сочинениям Хомякова он назвал своего учителя «учителем церкви», что также вызвало трения с Синодом. Самарин был блестящим полемистом. Недаром Герцен считал его в этом отношении более опасным противником, чем Хомякова. Два литературных спора, которые вел Самарин (с Герценом и позднее с Кавелиным), имеют чрезвычайно важное значение для истории русской мысли. Эти споры выделены мною в особую подглаву. (см. Приложение II. С. 94—95). Большое философское значение имеют также самаринские «Письма о материализме», к сожалению, не законченные. В них Самарин, тдавая, как это было его обычаем, известное признание заслугам материализма, с тем большей трастностью подвергает острой критике основные пороки этого учения. Посетив в семидесятые годы Германию и ознакомившись с взглядами так называемой «исторической школы» в одходе к христианству, Самарин написал по-немецки несколько острых этюдов, направленных против главы исторической школы Макса Мюллера. В этих этюдах Самарин доказывал, что, хотя исторический метод в подходе к религии может играть полезную подсобную роль, существо религии, как непосредственного общения человека с Богом, ускользает от этого подхода.
Очерк четвертый ЗАПАДНИКИ-ГУМАНИСТЫ
Славянофильство было по преимуществу движением религиозно-национальным и в своей социально-политической проекции патриархально-монархическим. Это не мешало ранним славянофилам быть свободолюбивыми либералами, хотя и консервативного оттенка. Позднейшее славянофильство, однако, утеряло либерализм и былой высокий идеализм, но зато приобрело большую историческую чуткость. Эволюция западничества протекала в обратном направлении. Чаадаев был религиозным либералом, проповедником социального христианства. Но мы сказали уже, что он не был характерной фигурой для западничества. Классическое западничество было движением секулярным и космополитическим, хотя не чуждым внецерковного христианства и патриотизма. Оно было движением либерального, прогрессивного характера. Позднейшее же западничество характеризуется воинствующим секуляризмом, враждебным христианству, с сильным душком интернационализма, доходившим до ненависти к родине (стихи Печерина: «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья...»). И если ранние западники были поклонниками западного гуманизма, еще идеалистически окрашенного, то позднейшие западники впали в довольно примитивный материализм. Тут, даже в деталях, соблюдена обратная пропорциональность. История западничества есть поучительная история вырождения идеи свободы, которая, будучи лишенной религиозных и идеальных источников, стала поклоняться новым кумирам «прогресса», «народа», «коллектива». В этом смысле появившийся в конце столетия ранний русский марксизм есть в какой-то мере законный наследник позднего русского западничества. Для понимания истории русского западничества важно подчеркнуть, что оно есть в каком-то смысле наследие реформ Петра Великого. Отсюда — крайний культ Петра у русских западников. Было время в России, когда западники сидели на троне и задавали тон всей русской жизни (сам Петр, Екатерина Великая до пугачевского восстания, отчасти Александр 1 в первые годы своего царствования — «дней Александровых прекрасное начало»). Этим объясняется тот парадоксальный факт, что западники могли, под предлогом славословия Петра, проводить по существу враждебные правительству западнические идеи, в то время как националистически настроенные лавянофилы за малейшую критику реформ Петра были безжалостно преследуемы цензурой. Вольтерианство было первым предшественником западничества еще в XVIII веке. Я уже указывал на то, что вольтерианство тогда привилось у нас более своим скепсисом, чем пафосом свободы и терпимости. Зато в XIX веке именно положительная сторона западного гуманизма — идеи свободы и достоинства личности, жажда социальной справедливости — делаются ведущими идеями раннего русского западничества. Характерно, что, помимо Монтескье и Адама Смита, помимо Шеллинга И Гегеля, на русское западничество наложил свою яркую печать Шиллер — поэт свободы, личного достоинства и справедливости. У нас больше уважали Гёте, но более вдохновлялись Шиллером. Чистейшими, хотя и несколько бледными первыми цветами русского западничества были Станкевич и Грановский — тот самый Грановский, которого в карикатурном виде обессмертил впоследствии Достоевский в лице Степана Трофимовича Верховенского, по поводу которого он приводил стихи: «Воплощенной укоризною ты стоял перед отчизною, либерал-идеалист». Он написал мало, но нравственное обаяние его личности было велико, и не только Белинский и Герцен, но и славянофилы свято чтили его память.
14
П. Я. ЧААДАЕВ
Первым видным русским западником в XIX веке принято с основанием считать П.Я.Чаадаева (1794—1856)16а. Он принадлежал к тем высокообразованным офицерам, которые, проделав поход в Европу во время Освободительной войны против Наполеона, восприняли западный либерализм и мечтали о водворении в России начал европейского просвещения. Однако неудача дела декабристов и начавшаяся при Николае 1 реакция привели Чаадаева к его весьма пессимистической оценке России. (Собственно, тут были также более глубокие причины, о которых — ниже.) Еще сам царь Петр, как известно, ненавидел русскую старину. В Чаадаеве эта ненависть (конечно, самая ее болезненная форма — любящая ненависть) перешла в осуждение России вообще. Ни один русофоб не написал про Россию таких страшных осуждающих слов, как Чаадаев. Мысли эти были изложены им в знаменитом «Философическом письме» (первом из восьми), опубликованном в журнале Надеждина «Телескоп» в 1836 году. Вот отрывки из этого знаменитого письма, буквально взбудоражившего тогдашнюю общественность: «Я не могу вдоволь надивиться необычайной пустоте нашего социального существования... мы замкнулись в нашем религиозном обособлении... нам не было дела до великой мировой работы... где развивалась и формулировалась социальная идея христианства». Именно в отрыве России от Запада с его светской цивилизацией, основанной, по мнению Чаадаева, на «социальном христианстве», следует искать основную причину этой, по его мнению, культурной пустоты русского национального бытия. В этом смысле он говорит, что «мы живем одним настоящим... без прошедшего и будущего» и что «прошлое России — пусто, настоящее — невыносимо, а будущего у нее нет». «Мы ничего не восприняли из преемственных идей рода человеческого», — продолжает Чаадаев. Он договаривается даже до того, что в «крови русских есть нечто враждебное истинному прогрессу» и что «мы —пробел в нравственном миропорядке». Если Господь Бог все же создал Россию, то как пример того, что не должно быть, — «чтобы дать миру какойнибудь важный урок». Иными словами, Россия для него как бы проклята исторической судьбой. Все недостатки и пороки русской жизни, включая самодержавие и крепостное право, он считал следствием отрыва от просвещенного Запада, отчасти же коренящимися в самом русском характере — «ленивом и нелюбопытном» (Пушкин), склонном к рабству и охотно терпящем тиранию. Словом — хуже не выдумаешь. Естественно, что письмо это произвело впечатление «выстрела, раздавшегося в темную ночь» (Герцен), и правительство приняло свои меры. Журнал «Телескоп» был закрыт, сам Чаадаев официально объявлен сумасшедшим, и за ним был установлен строгий надзор. Впрочем, до ареста дело не дошло, и надзор был впоследствии снят. Это письмо Чаадаева послужило одной из главных причин раскола между западниками и славянофилами, и вообще долгое время оно было «соблазном для западников, безумием для славянофилов». Чаадаеву открылась какая-то страшная правда о России — темная правда, от которой нельзя просто отмахнуться. Но, как увидим ниже, он понял впоследствии и другую, более светлую сторону целостной правды о России. Чаадаев вообще был своеобразнейшей фигурой. За внешностью гвардейского офицера в нем скрывался один из глубочайших в тогдашней России умов и инстинкт революционера. Недаром хорошо знавший его Пушкин писал: «Рожден в оковах службы царской, он в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес, а здесь он — офицер гусарский». Теперь, после опубликования в советском журнале «Литературное наследство» в 1935 году пяти из считавшихся ранее утерянными «Философических писем» Чаадаева и части его переписки17, мы знаем, что все это страшное осуждение России было следствием или, вернее, одним из возможных логических выводов из общего мировоззрения Чаадаева, а вовсе не исчерпывалось только «вызовом» (хотя такой элемент несомненно играл роль важного повода в его высказываниях). Ибо Чаадаев был прежде всего глубоким религиозным мыслителем, первым в России создавшим оригинальную концепцию христианской философии, ориентированной, однако, на католичество, а не на православие. К традиционному богословию он относился, впрочем, с большим недоверием. Он сам писал: «Я, благодарение Богу, не богослов и не законник, а просто христианский философ». При этом Чаадаев был, так сказать, «религиозным имманентистом». Высшая цель для него — достижение Царства Божьего здесь, на земле. Об этом он пишет во вдохновенных словах: «Истина едина: Царство Божие, небо на земле, осуществленный нравственный закон. Это есть предел и цель всего, последняя фаза человеческой природы, разрешение мировой драмы, великий апокалиптический синтез». Эта высшая цель достигается для него посредством исторического процесса, который — провиденциален, хотя, в силу присущей человеку свободы, отнюдь не предначертан с необходимостью. В этом смысле он говорит о том, что свобода — страшная сила, потрясающая мироздание.-Тем не менее он больше сосредоточивается на провиденциальном смысле истории, чем на иррациональной силе свободы. «Христианство, — говорит он далее, — является не только нравственной системой, но и вечной божественной силой, действующей универсально в духовном мире». Но благая весть христианства, по Чаадаеву, обращена не только к индивидуальным душам, для их личного спасения, — а прежде всего ко всему •человечеству, как оно развивается в историческом процессе. «Историческая сторона христианства заключает в себе всю философию христианства». И далее: «Призвание Церкви в веках было дать миру христианскую цивилизацию». При такой установке религиозного имманентизма становятся более понятными высказывания Чаадаева о России. Ведь православие по преимуществу — мистично, а не социально, оно более подчеркивало спасение индивидуальных душ, чем нравственный прогресс человечества. Для трансцендентного православия, по мысли Чаадаева, времени как бы нет. Между тем для него путь к Вечности лежит именно через время — через исторический процесс. В этом смысле характерно выраженное им «пламеннейшее желание — видеть Пушкина посвященным в тайну времени». Проф. В.В. Зеньковский хорошо говорит о том, что Чаадаев остро чувствовал «пламень истории» и горел этим пламенем. Эта основная установка религиозного мманентизма и упора на философию истории у Чаадаева не менялась. Но впоследствии изменились те выводы, которые он делал применительно к России. Сначала он отвечал на нападки противников, не сдавая своих позиций: «Я любил мою страну по-своему, и прослыть за ненавистника России мне тяжелее, чем я могу Вам выразить», но, как ни «прекрасна любовь к отечеству, есть нечто еще более прекрасное —любовь к Истине. Не через родину, а через Истину ведет путь на небо». Однако в сороковых годах в его оценках России и смысла ее бытия произошел довольно радикальный переворот. Он пришел к выводу, что некоторые из тех самых недостатков, за которые он так бичевал Россию, могут послужить залогом ее будущего величия.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Очерки по истории русской философии"
Книги похожие на "Очерки по истории русской философии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "С. Левицкий - Очерки по истории русской философии"
Отзывы читателей о книге "Очерки по истории русской философии", комментарии и мнения людей о произведении.