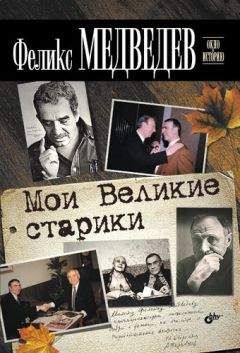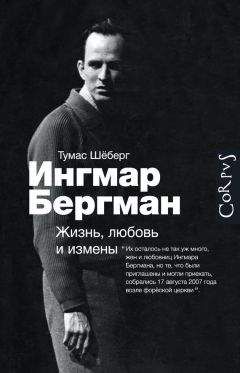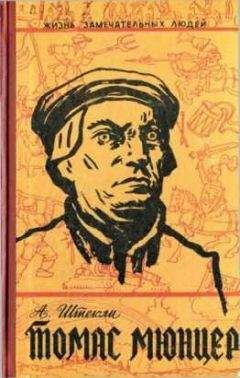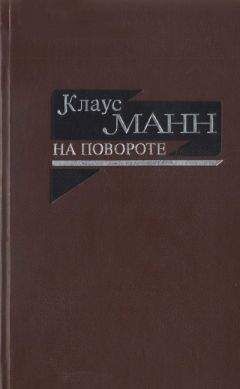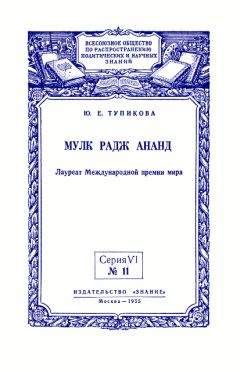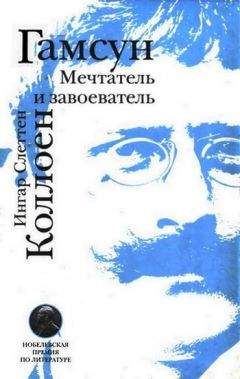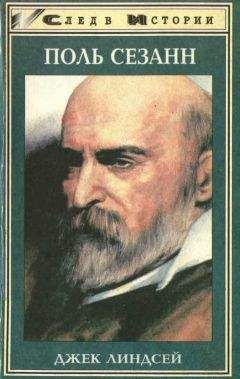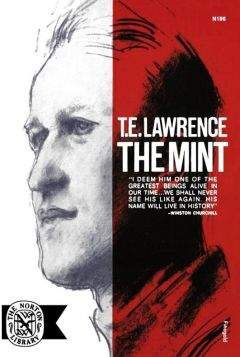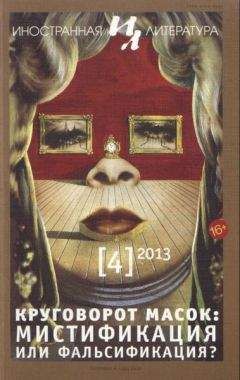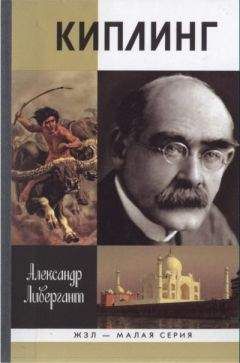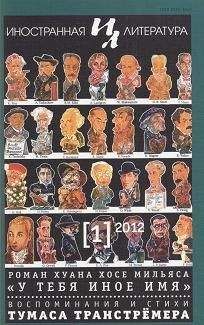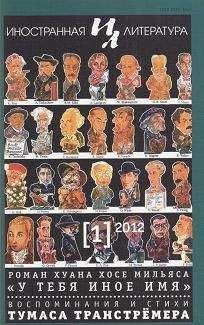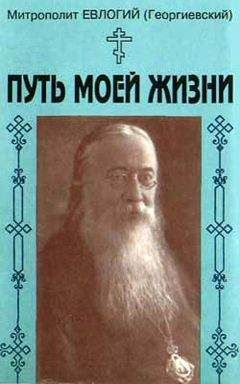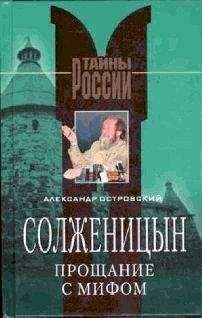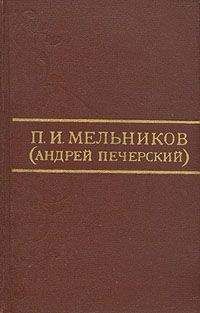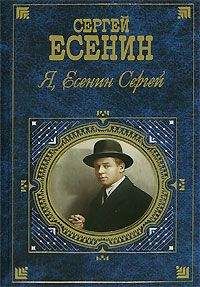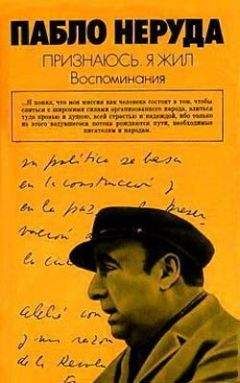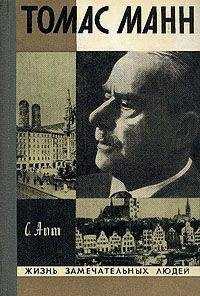Томас Манн - Путь на Волшебную гору
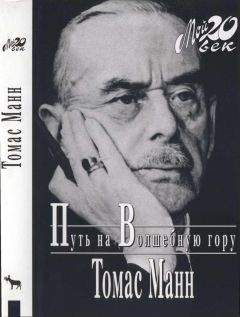
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Путь на Волшебную гору"
Описание и краткое содержание "Путь на Волшебную гору" читать бесплатно онлайн.
Выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн (1875–1955) — автор романов «Будденброки», «Волшебная гора», «Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус», тетралогии «Иосиф и его братья». В том мемуарной и публицистической прозы Томаса Манна включены его воспоминания — «Детские игры», «Очерк моей жизни», отрывки из книги «Рассуждения аполитичного», статьи, посвященные творчеству великих немецких и русских писателей. Выстроенные в хронологическом порядке, они дают представление об эволюции творчества и мировоззрения этого ярчайшего представителя немецкой культуры двадцатого столетия.
Лето стояло дивное, ослепительно ясное и не знойное, какое бывает только здесь, где изо дня в день дует свежий океанский бриз. Я написал XXVIII главу (конфузы барона Ридэзеля) за десять дней и приступил к следующей — о браке Инесы с Гельмутом Инститорисом, слегка озабоченный сознанием, что мне все равно придется ответить, и притом весьма обстоятельно, этому фон Моло, то есть по сути — Германии. Один из вечеров у Адорно снова свел меня с Гансом Эйслером, и наша беседа все время вращалась вокруг волнующе «подходящих» тем: говорили о том, что у гомофонной музыки нечиста совесть перед контрапунктом, о Бахе — «гармонизаторе» (как назвал его Гёте), о полифонии Бетховена, лишенной естественности и «худшей», чем моцартовская… Музыка царила также в хлебосольном доме миссис Уэллс в Беверли — Хиллз, где блестяще одаренный пианист Якоб Гимбель (из непревзойденной и неиссякаемой восточноеврейской плеяды виртуозов) играл Бетховена и Шопена. И снова у нас гостили дети и внуки из Сан — Франциско: «Встреча с Фридо, я в восхищении… Утром с Фридо. До слез смеялся над его речами и рассеялся, но потом писал свою главу и все‑таки увлекся». Вечером 26 августа, в воскресенье, у нас были гости и камерная музыка: Ванденбург со своими друзьями — американцами играл трио Шуберта, Моцарта и Бетховена. Жена отвела меня в сторону и сказала, что умер Верфель. Это сообщила по телефону Лотта Вальтер. Под вечер, у себя в кабинете, просмотрев корректуру последнего издания своих стихов, он упал мертвым на пути от письменного стола к двери, и только несколько капель крови выступило в уголке его рта. Мы закончили наш маленький праздник, так и не огласив этого известия, и после ухода гостей долго еще сидели и говорили. На следующее утро мы были у Альмы. Там мы застали Арльтов, Нейманов, мадам Массари, Вальтеров и других. Лизель Франк как раз уезжала, когда мы подъехали. «Хороший год, не правда ли?» — сказала она горько… Видно было, что она слегка уязвлена уроном, который нанесла эта смерть ее собственному горю. И действительно, разве в смерти художника, в его увековечении, в его уходе в бессмертие нет какого‑то элемента апофеоза, элемента, который близким покойного хочется оградить от какой бы то ни было конкуренции?
В панихиде по Франку я не смог участвовать; на панихиде по Верфелю, 29–го, мы присутствовали. Она состоялась в часовне похоронного бюро, в Беверли — Хиллз. Было огромное количество цветов, и на многолюдное траурное собрание пришло немало музыкантов и писателей. Отсутствовала только вдова, вдова Малера, а теперь — Верфеля. «Я никогда не хожу на похороны», — сказала эта великолепная дама; такая непосредственность показалась мне настолько забавной, что я даже не знал, от чего — от смеха или от рыданий — у меня разрывалась грудь, когда я стоял у гроба. В соседнем маленьком зале, под аккомпанемент Вальтера, пела Лотта Леман. Надгробная речь аббата Мениуса, ко все большему замешательству органиста, сыгравшего к ней прелюдию, долго не начиналась, потому что в последний момент Альма пожелала тщательно проверить текст. Мениус выступал не как представитель церкви, а как друг верфелевского дома, но в его речи, цитировавшей вместо Библии Данте, были все приметы католической культуры. Картина этого обряда, самая идея его крайне меня потрясли, и затем, уже на улице, здороваясь с друзьями и знакомыми, я замечал по их лицам, что они испуганы моим видом.
«Долго работал», — гласит запись следующего дня. Здесь подразумевался роман, но уже нельзя было больше откладывать письмо в Германию — ответ на запрос писателя фон Моло, и хотя я взялся за это дело с неохотой, у меня и теперь, как тогда, когда я писал из Цюриха письмо Боннскому факультету, просилось на бумагу множество мыслей, каковым, однако, на сей раз мне удалось придать прочно документальную форму. К стыду моему, на сочинение этой реплики мне потребовалось как‑никак восемь дней: ибо, хотя я закончил ее уже на пятый день, при проверочном чтении выяснилось, что необходимо заново написать конец, собственно говоря — всю вторую половину; еще день ушел на «вялые наброски», еще один — на новое окончание, а на третий день (после пятого) в дневнике записано: «Право же, еще раз». Но так или иначе ответ был написан — в гуманном тоне, как мне казалось, в тоне мирном и утешительно ободряющем под конец, как я пытался себя убедить, хотя мог быть уверен заранее, что на родине услышат прежде всего только мое «нет», — и письмо ушло в Германию, в нью — йоркский «Ауфбау» и в Office of War Information.
«Перечитывал текущую главу. Наконец‑то продолжил ее». Тогда мне попалась одна старая книжка: «Сказание о Фаусте. Народные книги, народный театр, кукольные действа, власть ада и волшебные книги» И. Шейбле, Штуттгарт, 1847, издано на средства составителя. Это пухлая антология всех существующих версий популярного фаустовского сюжета и самых разнообразных ученых рассуждений о нем, содержащая, к примеру, статью Герреса о волшебном сказании, о заклинании духов, о сделке с нечистым из его «Христианской мистики» и весьма любопытный раздел из вышедшего в 1836 году труда доктора Карла Розенкранца «Кальдеронова трагедия о маге — чудодее. К изучению легенды о Фаусте», где приводится следующая выдержка из лекций Франца Баадера по религиозной философии: «Истинный диавол должен нести в себе предельную охлажденность. Он должен… нести в себе высшую удовлетворенность самим собой, крайнее безразличие, самоупоенное отрицание. Нельзя не согласиться, что подобное оцепенение в пустой самоуверенности, исключающей какое бы то ни было содержание вне этого самодовольства, есть совершенный нигилизм, лишенный всяких живых черт, если не считать обостреннейшего эгоизма… Но именно в силу этой ледяной холодности невозможно было бы дать поэтическое изображение диавольского начала. Здесь нельзя целиком освободиться от пафоса, да и для действия надобно какое‑то участие в нем сатаны, отчего последний и предстает в глумлении над действительностию…» Все это в немалой степени меня касалось, и вообще я усиленно читал эту старую книжицу в картонном переплете. Кроме того, я снова, и очень сосредоточенно, занялся Адальбертом Штифтером. Я перечитал его «Старого холостяка», «Авдия», «Известняк», показавшийся мне «неописуемо самобытным и полным неброской отваги» произведением, и такие поразительные места, как градобой и пожар в «Повести о смуглой девочке». Часто подчеркивали противоречие между кроваво — самоубийственным концом Штифтера и благородной умиротворенностью его поэтического творчества. Но куда реже замечали, что за спокойной, вдумчивой пристальностью, столь характерной для его видения природы, как раз и кроется то тяготение ко всему экстраординарному, первозданно — катастрофическому, к патологии, которое, внушая тревогу, дает о себе знать, например, в незабываемом описании бесконечного снегопада в Баварском лесу, в знаменитой засухе в «Глухой деревне», а также в произведениях, названных ранее. Родство с грозой девочки из «Авдия», ее обида за молнию тоже входит в эту жуткую сферу. Разве можно найти что‑либо подобное у Готфрида Келлера? А ведь с его юмором на редкость созвучна такая повесть, как «Лесная тропинка». Штифтер — один из самых замечательных, сложных, подспудно — смелых и поразительно занятных повествователей в мировой литературе, он далеко не достаточно изучен критикой…
Тогда я, как последний дурак, огорчался из‑за грубой и грязной брани некоего Ц. Барта в нью — йоркской газете «Нейе Дейтше Фольксцейтунг», а одновременно через О. W. I.[240] получила распространение лживая и наглая статья Франка Тиса из «Мюнхенер цейтунг», документ, с величайшей претенциозностью заявлявший о существовании так называемой внутренней эмиграции, содружества интеллигентов, которые «сохраняли верность Германии», «не оставляли ее в беде», не «наблюдали за судьбой отечества из удобных лож заграницы», а честно ее разделяли. Они бы честно ее разделяли, даже если бы Гитлер победил. Однако печка, за которой они отсиживались, рухнула, и, считая это своей великой заслугой, они теперь всячески поносили тех, кому пришлось хлебнуть воздуха чужбины и кому на долю так часто выпадала гибель и нищета. Между тем даже в самой Германии Тис был жестоко разоблачен опубликованием одного его интервью 33–го года, где он восторженно отзывался о Гитлере, так что воинство лишилось теперь своего командира. Невежественная брань по моему личному адресу, раздававшаяся со страниц третьеразрядных немецко — американских газетенок, была тяжким испытанием для моих нервов. Репатриированные эмигранты всячески поносили меня в немецкой прессе. «От нападок, от вранья, от глупостей, — признается дневник, — устаешь, как от тяжелой работы».
Однако иное вознаграждало меня и ободряло. Большая статья в «Нувель литерэр», где на редкость тонко были оценены громадный труд, который проделала Луиза Сервисан, осуществив перевод «Лотты в Веймаре», и роман как таковой обрадовали меня гораздо больше, чем огорчили упомянутые неприятности. Эрика прислала мне этот номер из Мондорфа (Люксембург) вместе с описанием своего посещения нацистских главарей, временно содержавшихся там в ожидании суда в какой‑то полугостинице — полутюрьме. Когда эти низвергнутые страшилища узнали, кто такая американская военная корреспондентка, у них побывавшая, волнение их выразилось в самых различных градациях, от бешеной ярости до сожаления, что не пришлось с ней толком поговорить. «Я бы ей все объяснил! — воскликнул Геринг. — Вопрос о Манне был решен неверно. Я бы поступил иначе!» Интересно, как же? Разумеется, он предложил бы нам замок, миллионный капитал и по бриллиантовому перстню на брата, если бы мы поладили с Третьей империей. Ну что ж, пропади пропадом, веселый душегуб! Ты по крайней мере наслаждался жизнью, в то время как твой господин и наставник нигде никогда и не жил, кроме как в аду.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Путь на Волшебную гору"
Книги похожие на "Путь на Волшебную гору" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Томас Манн - Путь на Волшебную гору"
Отзывы читателей о книге "Путь на Волшебную гору", комментарии и мнения людей о произведении.