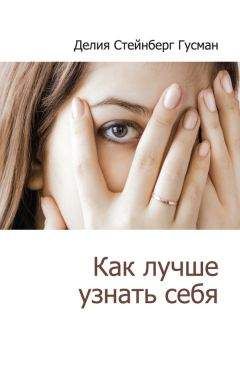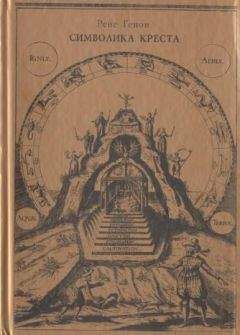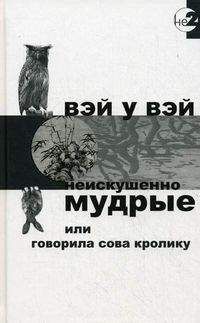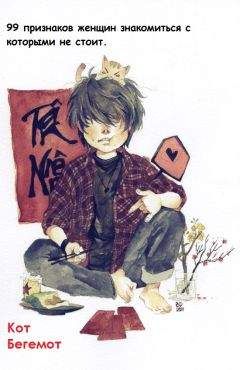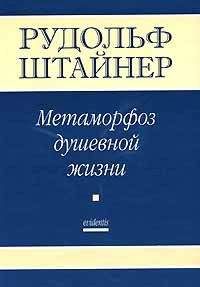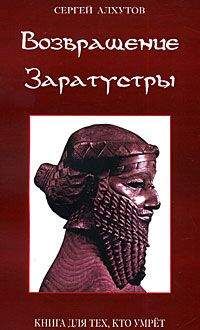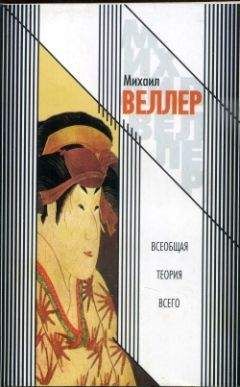Сергей Булгаков - Невеста Агнца
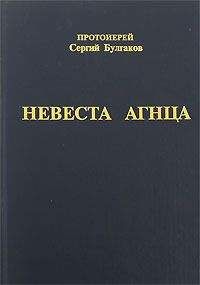
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Невеста Агнца"
Описание и краткое содержание "Невеста Агнца" читать бесплатно онлайн.
Сочинение, предлагаемое вниманию читателя, представляет собою третью и заключительную часть богословской трилогии, посвященной раскрытию основной истины христианства о Богочеловечестве. По общему плану, как оно было задумано около десяти лит назад, его первая и вторая часть посвящены естеству Божественному: Агнец Божий, 1933, и Утешитель, 1935, — христология и пневматологии, третья же и последняя его часть — человечности. Здесь рассматриваются разные стороны тварного бытия, от природного и падшего его состояния до прославленного и преображенного. Таким образом, тема этого труда есть учение о Церкви, экклезиология, понятая во всей ее широте и глубине, как софиология. Она необходимо включает в себя в эсхатологию, как завершительную часть всего учения о Богочеловечестве, содержа его наиболее обобщающие и последние истины. Постольку она есть и наиболее важная и ответственная часть всего труда о Богочеловечестве. Таковою она является и для составителя, ныне отдающего ее на обсуждение церковное.
Несколько слов о внешних судьбах этой книги. К 1939 году она была совершенно готова к печати. Однако, в ее издании образовался длительный перерыв, исполненный величайших потрясений в жизни всего мира. Испытания этих лет, личные и общие, естественно являлись для меня жизненной проверкой верований, которые здесь находят для себя исповедание. В связи с этим я должен сказать, что без колебаний отдаю эту книгу в печать в том виде, как она была первоначально написана. Лишь в качестве заключительного «Аминь» мною прибавлены Addenda. Последние, хотя и содержат отчасти повторения уже сказанного, но представляются мне необходимыми именно в качестве такого подтверждения этого исповедания веры.
И что еще скажу? Истины, которые содержатся в откровении оБогочеловечестве, в частности же в эсхатологическом его раскрытии, столь незыблемы и универсальны, что пред ними бледнеют, как бы изничтожаются в своем отологическом значении даже самые потрясающие события мировой истории, которых свидетелями мы ныне являемся, поскольку мы их постигаем в свете Грядущего. А это Грядущее есть явление Церкви в силе и славе, вместе с преображением твари. Сердцем же в душой, личным средоточием творения является Дева-Матерь, «Жена и Невеста Агнца», она же и «Святый город — Небесный Иерусалим — нисходящий с небес от Бога», «приготовленный как невеста украшенная для своего мужа» (Откр. 21, 2), «скиния Бога с человеками» (3).
И вред лицом этого Грядущего надлежит снова и снова в сердце своем вопиять молитвенным воплем веры, любви и упования: «И Дух и Невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди!... Свидетельствующий сие говорит: ей, гряди скоро! Аминь. Ей, гряда, Господи Иисусе! (Откр. 22, 17, 20).
11/24 Июня 1942 года.
Сергиевское Подворье в Париже.
Источник: http://odinblago.ru
Но человеку свойственна не только возможность творчества и даже известная его неизбежность, оно же есть и его долг, Божия воля о нем. Ибо человек призван «творить дела» силою Христовой, вдохновением Духа Св. Человек послан в мир для творчества в нем Его творчество не только самолично, но и софийно, оно выявляет софийный лик творения.
Творчество было всегда свойственно человеку, ибо без этого он утратил бы свою человечность. Но именно нашей эпохе в истории христианства дано постигнуть это призвание человека, как
359
вытекающее из его укорененности в Боге, черту образа Божия в нем Подобно тому, как и другие истины христианства осознавались полнее в борьбе с ересью, для нашего времени таким очередным догматическим вопросом является ересь жизни в отношении христианского творчества В частности, нашему времени в такой степени свойственно столь широкое развитие творчества «во имя свое», разлив человекобожия, осуществляющего себя именно в люциферическом упоении творческом, а наряду с этим такое погружение в тупое чувственное язычество, которое не может быть ниспровергнуто только отрицанием, но требует раскрытия положительного христианского учения о мире и творчестве и явления силы его. Это является лишь дальнейшим раскрытием Халкидонского и дифелитского догмата, согласно которому полнота человеческого естества и вся сила творческой воли и энергии человека во Христе соединена с Божеским естеством, с ним сопроявлена и им обожена. То, что совершилось во Христе, предсовершилось и для всего человечества. «Мир» в свете этого догмата является не «царством мира сего», но светлым творением Божиим, которое возводится чрез человека к обожению. Поэтому и те творческие задачи, которые встают пред современным человечеством, должны быть постигаемы в свете грядущего преображения мира, как задания религиозно-творческие, исполнение заветов Христовых: «дела, яже Аз творю, и вы сотворите, и больше сих сотворите (Ио. 14, 12). Дать исчерпывающий перечень задач, существующих для человеческого творчества, разумеется, невозможно, ибо оно само в себе таит их бесконечность Сюда относится овладение социальной стихией, или родовой жизнью человечества, т. е. социально-политической организацией, — это есть социальный вопрос в самом широком смысле. Разумеется, на путях к этому достижению стоит раздробленность христианства навероисповедания, ибо до тех пор, пока последнее оказывается неспособно само преодолеть это раздробление, оно остается бессильным и в социальном упорядочении жизни человека. В связи же с этими задачами стоят общие неисчерпаемые задачи культурного творчества. На этих путях предстоит последнее противоборство творчества во имя Христово с творчеством во имя свое, антихристовым, сатанинским. Это последнее есть духовное хищение, попытка князя мира сего овладеть творением Божиим, восхитить его у Господа. Но и в этом, черно-красном, или красно-черном, творчестве, связанном со строительством нового Вавилона, действительным его источником является человечность со всем богатством вложенных в нее даров. Иного источника вообще не существует. В применении к
360
данному случаю можно повторить слово блаж. Августина ο том, что сатана и в падении своем сохраняет природу падшего высшего ангела, которая неотъемлемо присуща ему по сотворению. Подобно и человек в осатанении сохраняет свою человечность, полноту своих, хотя и ко злу обращенных творческих сил. Поэтому-то человеческое творчество в двояком устремлении своем и может определяться как «два града», однако в недрах того же единого человечества, причем в пределе, на грани конца обнаружится и всечеловеческий итог жатвы: плевелы будут отделены от пшеницы и сожжены, пшеница же собрана вместе.
Отсюда следует, что, несмотря на единство человечества и единый корень всею его творчества, оно не имеет для него гармонического свершения, напротив, его удел есть самая раздирающая трагедия последней борьбы, в символических образах описанной вОткровении. История не кончится в имманентности своей, но катастрофически оборвется, чтобы трансцендировать в новый эон силою Божией. «Прогресса» же, как гармонии «дурной бесконечности», нет и не будет.
И однако, несмотря на то, что история внешне как будто оборвется, она внутренне закончится в том смысле, что в ней наступит та полнота тварного раскрытия человечности, которая достаточна для наступления конца и преображения мира. Это наступление созревания мира для его конца есть тайна всеведения Божия, ведомая только Отцу Небесному, Богу Творцу. Свершение и конец века есть новое явление Церкви: «наступил брак Агнца и жена Его приготовила себя» (Откр 19, 7). «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца» (21, 9). «И Дух и Невеста говорят: прииди» (22, 17). И это трансцендентное истории событие для мира выражается, как явление «великого града, святого Иерусалима, который нисходит с неба от Бога, он имеет славу Божию» (21, 10-11 и сл.). Однако важно при этом установить, что этоновое, входящее в жизнь, как творимое Богом («ce творю все новое», 21, 5) как «нисходящее с неба», не только не упраздняет старого, но его в себя включает и в себе предполагает, как вообще прошлое живет и сохраняется в будущем, почему и говорится «древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5, 17). Это не означает, что прошлое исчезло, совсем уничтожившись, но оно живет в грядущем, как Ветхий Завет в Новом. Отсюда следует чрезвычайно важное заключение, что наша теперешняя посюсторонняя история также имеет свое увековечиваемое значение, — не в эмпирической оболочке, но внутреннем содержании. Это вечное во временном принадлежит Церкви, откуда следует, что Церковь дей-
361
ствует в истории, как творящая сила. Церковь есть не только Ноев ковчег, спасающий в нем пребывающих от потопа растления, но она есть и закваска, заквашивающая все тесто. Человеческая история есть, прежде всего, история Церкви, не только внешняя, в смысле ее судеб в мире, как установления, но и внутренняя, как сила духовная, совершающееся Богочеловечество. В этом смысле христианская история есть и вообще «последнее время».
Если история избранного народа до пришествия Христова является для нас «священной историей», то после боговоплощения область эта не ограничивается одним народом, но простирается на весь мир, уже принадлежащий Христу и принявший сошествие Св. Духа, ставший богочеловеческим. На Страшном Суде, при подведении последних итогов, когда откроются «книги» (Откр. 20, 12), и «соберутся все народы», обнаружится эта церковная пронизанность всей человеческой истории, как подлежащей суду Христову.Апокалипсис (наряду с аналогичными текстами из Слова Божия) именно и есть такое откровение о Церкви как внутренней силе и, так сказать, субстанции истории. Основная же руководящая идея этой историософии состоит в том, что эта история Церкви есть не мирный «прогресс», ведущий к гармоническому свершению в пределах этого времени, но борьба и трагедия, которая оканчивается всемирно-исторической катастрофой и мировым пожаром, и из него лишь рождается феникс будущего века. И вся картина мировой истории является нарастанием этих духовных антагонизмов и борьбы (1), ее углублением и растущей зрелостью.
Есть ли это пессимизм, именно вся вообще философия истории, как «философия конца»? Никоим образом. Напротив, она есть самое жизненное, энергетическое мировоззрение. Однако, она столь же не есть и оптимизм, ибо в пределах самой истории для этой трагедии нет конца и исхода. Правда, с приближением к концу, все ярче разгорается заря и светится небо, и оттуда уже слышатся для чуткого уха гимны победы. Однако внизу в последний раз собираются черные рати Гога и Магога для окружения стана святых, на брань Армаггеддонскую (Откр. 16, 17). А в ответ на это собираются воинства небесные и земные около «Сидящего на белом коне, имя Его — Слово Божие» (19, 11-13), доколе не наступает уже конец истории и всеобщее воскресение и суд. При
(1) Духовные мещане, как Маркс и социалисты, видят в этой борьбе только экономическое содержание, тогда как она идет о последних духовных ценностях.
362
этом трагическом понимании исторического процесса неизбежно возникает вопрос: совершается ли в нем и достигается ли нечто существенное, что дает положительное содержание истории, необходимое для исполнения времен и сроков? На этот вопрос следует отвечать безусловно в утвердительном смысле. В распространенном воззрении, столько же лжеаскетическом, как и лжехристианском, но истинно манихейском, фактически утверждается мысль, что жизнь этого мира есть своего рода чистилище или тюрьма, в которой души должны отмучиться до определенного конца. Для этого абстрактного спиритуализма нет истории, как нет и человечества, но есть лишь отдельные души, жаждущие освободиться от тела и уйти из этого мира, так что становится непонятно, к чему нужно еще телесное воскресение и преображение. Это платонически-буддийское мировоззрение остается чуждо и Апокалипсису, насколько он есть все-таки философия истории. История есть процесс положительного содержания, в котором осуществляются земные, исторические достижения, совершается «прогресс», хотя и трагический, но прогресс вовсе и не должен быть необходимо мещанским. В истории должно быть достигнуто все, что только может быть достигнуто в земном строительстве Града Божия. Прежде всего, мы должны дать полную силу пророчествам Слова Божия об этих достижениях, как ветхо- так и ново-заветным. Таковыми пророчествами преисполнена уже и ветхозаветная письменность, которая вообще ориентирована не столько на потусторонние, сколько посюсторонние ценности, начиная с завета Бога с Авраамом (Быт. 13, 15-16; 17, 4-8; 22, 17-18). Сюда относится мессианское царство, описанные у пророков: Ис. 2: 1-4; 11: 1-9, 10-12, 28; 18: 3-7; 19: 18-24; 25, 1-8; 42, 1-4; 45: 12-25; 51: 60-66; Иер. 12, И-17; Езек. 16; 39: 21-29; 47: 22-3; Дан. 2, 35; 7: 14, 27; Иоиль 3, 4; Амос, 9, 8-15; Авдий 17-21; соф. 2, 11; 3, 9; Зах. 8, 3; 20-3; 9, 9-10; 14, 9-21; Мал. 1, 11. Сюда же относятся «царские псалмы»: 19, 20, 44, 77 и др. (1).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Невеста Агнца"
Книги похожие на "Невеста Агнца" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Булгаков - Невеста Агнца"
Отзывы читателей о книге "Невеста Агнца", комментарии и мнения людей о произведении.