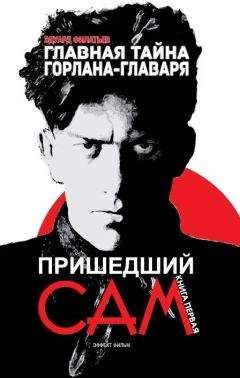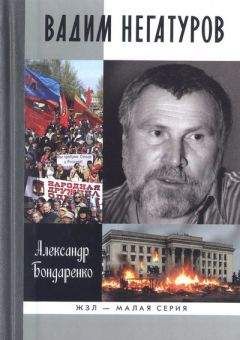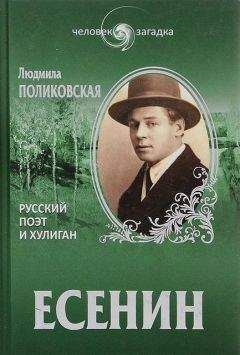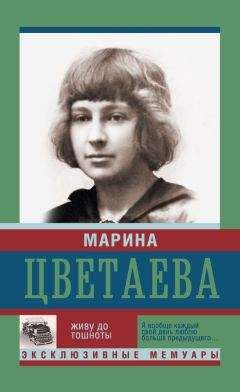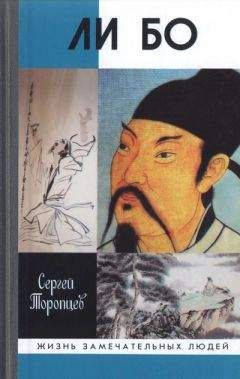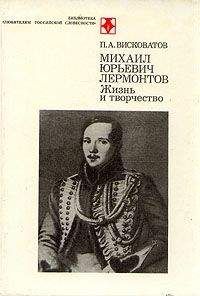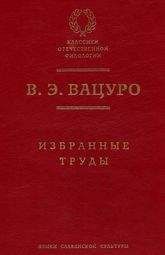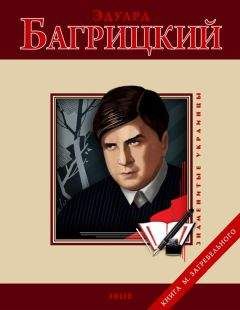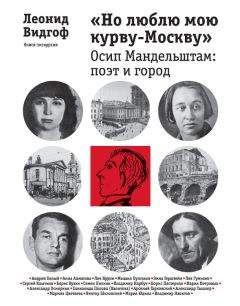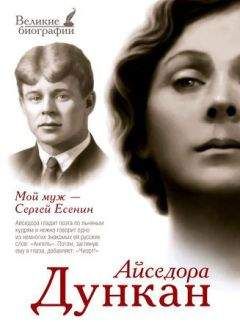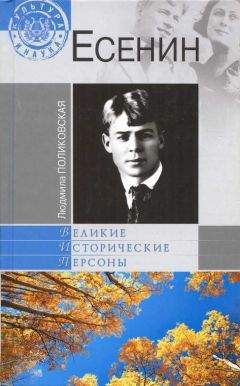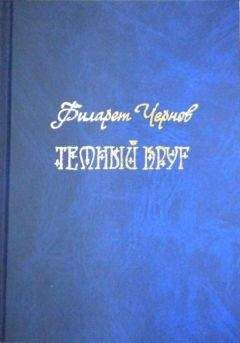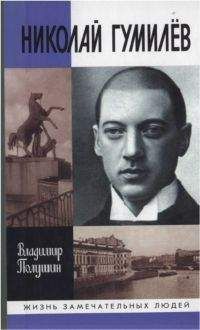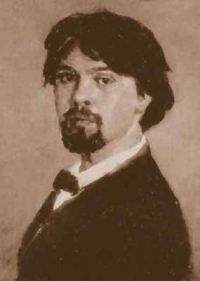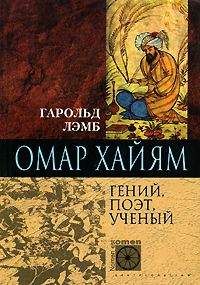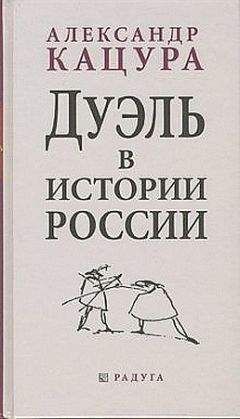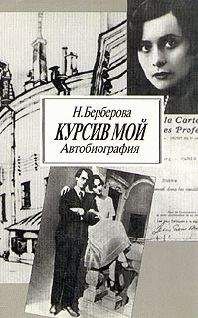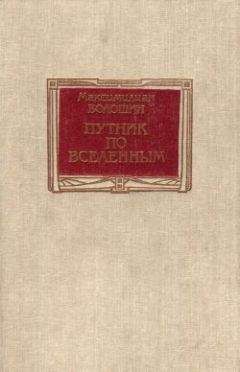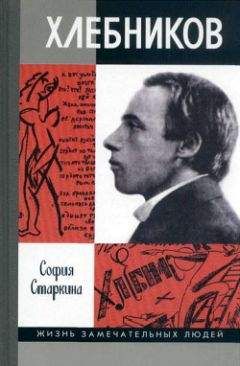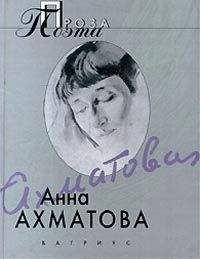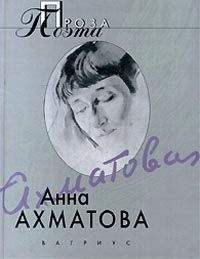Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог
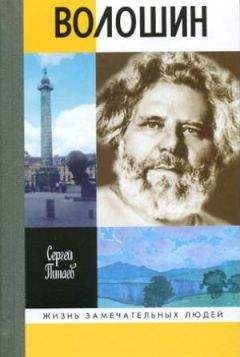
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Описание и краткое содержание "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог" читать бесплатно онлайн.
Неразгаданный сфинкс Серебряного века Максимилиан Волошин — поэт, художник, антропософ, масон, хозяин знаменитого Дома Поэта, поэтический летописец русской усобицы, миротворец белых и красных — по сей день возбуждает живой интерес и вызывает споры. Разрешить если не все, то многие из них поможет это первое объёмное жизнеописание поэта, включающее и всесторонний анализ его лучших творений. Всем своим творчеством Волошин пытался дать ответы на «проклятые» русские вопросы, и эти ответы не устроили ни белую, ни красную сторону. Не только блестящий поэт, но человек необычайной эрудиции, разносторонних увлечений, «внепартийной» доброты, в свою жизненную орбиту он вовлёк многих знаменитых людей той эпохи — от Д. Мережковского, 3. Гиппиус, Вяч. Иванова, М. Цветаевой, В. Ходасевича, О. Мандельштама, А. Толстого… до террориста Б. Савинкова, кровавого большевика Б. Куна и других видных практиков революции. Жизнь и творчество поэта — это запечатлённая хроника трагедии «России распятой».
Крымскому успеху Волошина как поэта и лектора способствовала публикация поэмы «Протопоп Аввакум». Несмотря на историческую отдалённость сюжета, условность повествования от первого лица, сложность стиля, наличие «безрифменного, свободногнущегося размера» (по определению самого автора), поэма приобретает необыкновенную популярность. В Таврическом университете она обсуждается на студенческих семинарах, журнал с её текстом (Родная земля. Киев, 1918, № 1) выписывается для школьных библиотек Симферополя. Даже такой взыскательный ценитель поэзии, как И. А. Бунин, относящийся к Максу весьма настороженно, как и вообще ко всем «декадентам», отметит после авторского чтения «Аввакума» в апреле 1919 года: «Справился с ним хорошо, фигура написана выпукло. Техника стиха превосходна».
Однако житийная стилистика поэмы не могла скрыть её пафос, обращённый в современность:
…Аз есмь огонь, одетый пеплом плоти,
И тело наше без души есть кал и прах.
В небесном царствии всем золота довольно.
Нам же, во хлябь изверженным
И тлеющим во прахе, подобает
Страдати неослабно.
Что будет плаванье?
По мале времени, по виденному, беды
Восстали адовы, и скорби, и болезни.
Вера в человеческий дух, возносящийся над исторической бездной, — вот что стремился передать читателям поэт:
…Время
Приспе страдания.
Крепитесь в вере.
Возможно Антихристу и избранных прельстити…
А на вопрос, «что будет плаванье» и кто в нём будет кормчим, Волошин ответил статьёй «Вся власть патриарху», которая была опубликована 22 декабря 1918 года в газете «Таврический голос». На первый взгляд, считает поэт, власть должна быть сосредоточена в руках Добровольческой армии. Но она — только орудие, «великая политическая молчальница». Перед властью стоит трудная задача, и неизвестно, как она с ней справится. «Но в то же время положительное разрешение её глубоко необходимо, потому что сейчас все русские политические партии, последовательно берясь одна за другой за политическое водительство России, скомпрометировали себя окончательно и безнадёжно… Каждая — за исключением большевиков, но их цели и побуждения были иные… Русские партии за время революции ничему не научились и ничего не поняли». Так что же — военная диктатура? «Но Наполеона у нас не предвидится», а любой ординарный, доморощенный генерал, при реальной власти союзников, станет «подставным лицом без инициативы».
Обращаясь к прошлым векам русской истории, к Смутному времени, мы не можем не увидеть в ней параллелей с нынешним днём. «Мы проходим сквозь все разрушительные стихии русской истории — разиновщину, пугачёвщину, к которым мы сами присоединили, как новый знак, „азефовщину“. А в ближайшем будущем нам предстоит пройти сквозь „самозванщину“, которой будет отдан 1919 год (лже-Николаи) и период после 1922 года (совершеннолетие всех лже-Алексеев). И снова для нас должна повториться эпоха московского собирания русских земель… Сила, объединившая русскую землю вокруг Москвы, была не только в московском скопидомстве „Золотого мешка“ — Калиты, но и в морально-духовной силе, которая шла от святого Сергия Радонежского, из Троицкой лавры, из деятельности московских митрополитов и патриархов.
Не случайно русская церковь в тот самый момент, когда довершался разгром русского государства, была возглавлена патриархом (патриархат в Русской православной церкви был установлен в 1589 году[13]. — С. П.). Не случайно большинство Собора, бывшее против патриархата, тем не менее установило его, интуитивно повинуясь скрытому гению русской истории». Таким образом, патриарх в настоящее время — «естественный глава России. Ему надлежит направлять действие Добровольческой армии, ему дано право созвания Земского собора…». Ибо именно патриарх «всегда принимал на себя временный распорядок светскими делами в эпохи смут и междуцарствий».
Разумеется, статья Волошина вызвала самые разнообразные отзывы и реакции. Однако, несомненно, это был продуманный подход к сложившейся в стране ситуации, хотя и, учитывая объективные обстоятельства, мало реальный. Впрочем, «Таврический голос» был услышан, и на Епархиальном съезде в Ялте статья Волошина активно обсуждалась. Но вернёмся к лекционному турне…
20 января Волошин направляется в Одессу, где ему суждено будет провести три с половиной месяца, наполненные встречами и выступлениями, работой и иллюзиями. Макс встретился здесь со своими старыми знакомыми Цетлиными, которые, собственно говоря, и были главными инициаторами его поездки. В их квартире на Нежинской улице художник обрёл временное пристанище, вместе с двумя видными представителями партии эсеров, А. Р. Гоцем и В. В. Рудневым. Но, как мы знаем, для поэта партийная принадлежность не имела значения. Весёлая, легкомысленная Одесса переживала те же трудности, что и любой российский город: сложно было с продуктами, случались перебои с электричеством, ощущалась нехватка топлива, распространялся сыпной тиф. На улицах попадались не слишком активные военные патрули, представляющие разные народы Европы; больше активничали весьма обнаглевшие бандиты, представляющие «сборную» России, опирающуюся на традиционную одесскую «основу».
При этом не затихала культурная жизнь. Выходили юмористические журналы; проходили концерты Изы Кремер и Надежды Плевицкой; пели Александр Вертинский и Леонид Утёсов; в цирке Труцци выступал Иван Поддубный. А уж какую колоритную компанию представляли поэты, входившие в кружок «Зелёная лампа»… Здесь и Эдуард Багрицкий, и Аделина Адалис, и Леонид Гроссман, и Вера Инбер, и Валентин Катаев, и Юрий Олеша… Не менее солидно были представлены и писатели-гости: Дон-Аминадо и Тэффи, Алексей Толстой и Наталья Крандиевская; о прежнем времени напоминали собой Иван Бунин и Влас Дорошевич. В своих воспоминаниях Бунин весьма выразительно описывает окололитературный быт Одессы того периода и на его фоне — облик Максимилиана Волошина.
Иван Алексеевич Бунин знавал Волошина и раньше, встречался с ним в Москве, когда Макс был уже заметным сотрудником «Весов» и «Золотого руна». Практически все, кому доводилось общаться с Волошиным, прежде всего обращали внимание на его неординарную внешность. Не стал исключением и Иван Алексеевич: «Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, тёмно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторого-баранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживлённость, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и „очаровательное“, хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду где угодно и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи… делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику — и осторожное, но неутомимое сладострастие аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином…»
О качестве читаемых Волошиным стихов Бунин почти не говорит, упоминает лишь стихотворения «В вагоне» — характерное для волошинского периода «влечения к словам», «Ангел Мщенья» — в связи с тем, что тогда, в середине первого десятилетия XX века, «чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами», да «стихотворение из времён французской революции», где в качестве «ударно-эстрадных слов» ему представляются такие: «Это гибкое, страстное тело / Растоптала ногами толпа мне» (то, что оно посвящено не телу, а голове мадам де Ламбаль, автору воспоминаний не запомнилось). Сблизившись с поэтом в Одессе, Иван Алексеевич был немало удивлён. «Помню его первые стихи, — судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьётся внешне и внутренне». Впрочем, о том, что собой представлял «доодесский» поэт Волошин, будущий нобелевский лауреат имел весьма поверхностное представление. Внешняя эксцентричность в очередной раз заслонила внутреннюю суть.
В Одессе, как вспоминает Бунин, Макс «тотчас же проявил свою обычную деятельность». Он выступил с чтением стихов в Литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где почти все «новые одесситы», то есть бежавшие из столиц писатели, читали за небольшую плату свои произведения среди пивших и евших перед ними «недорезанных буржуев». Читал Волошин то, с чем он выступал в последнее время, — «о всяких страшных делах и людях как древней России, так и современной, большевистской». Бунин дивится и восхищается: «…так далеко шагнул он вперёд и в писании стихов, и в чтении их, так силён и ловок стал и в том и в другом». Бунин злится: «…слушал его даже с некоторым негодованием; какое, что называется, „великолепное“, самоупоённое и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение!» Бунин иронизирует: «Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле всё как-то поднято, надуто, концы густых волос, разделённых на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно. Кряжистый мужик русских крепостных времён? Приап? Кашалот?..» Но вот происходит встреча в гостиной у Цетлиных, и «кряжистый мужик» вновь оказывается «милейшим и добрейшим Максимилианом Александровичем». Бунин обращает внимание на то, как изменился с годами облик поэта: он стал старше, тяжелее, но сохранился стиль поведения — молодость движений, общительность, а главное, «благорасположение ко всему и ко всем, удовольствие от всех и от всего… даже как бы ото всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в тёмной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Книги похожие на "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Отзывы читателей о книге "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог", комментарии и мнения людей о произведении.