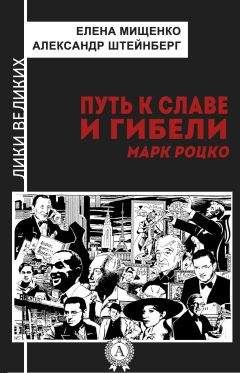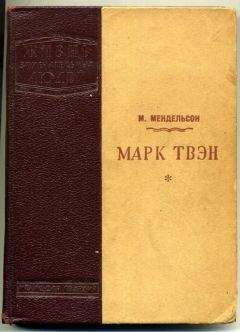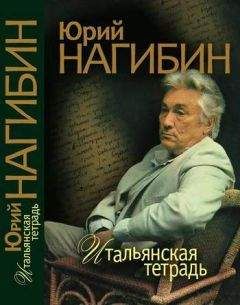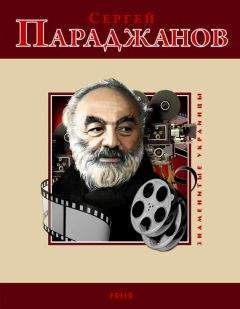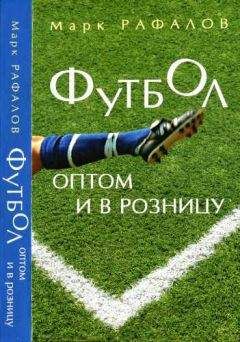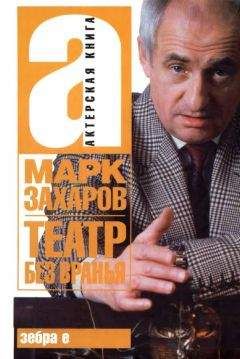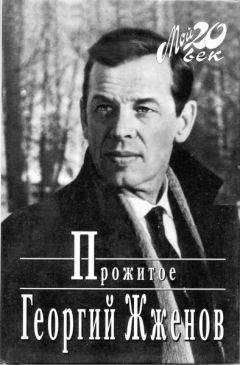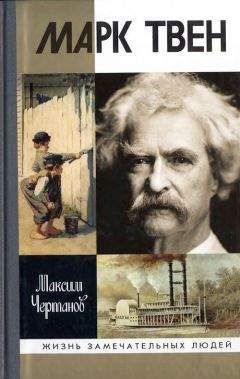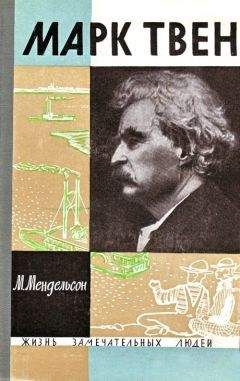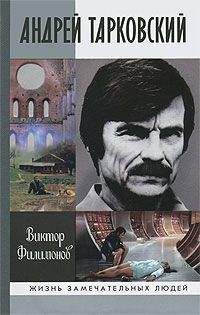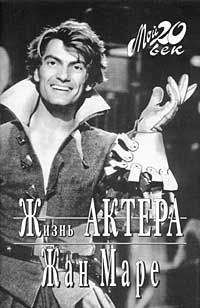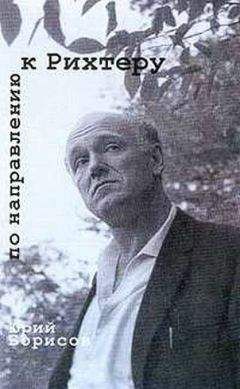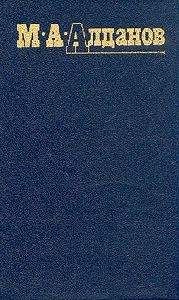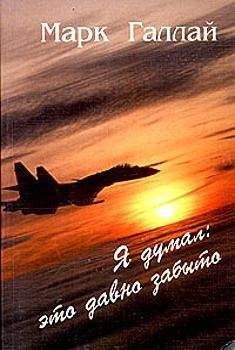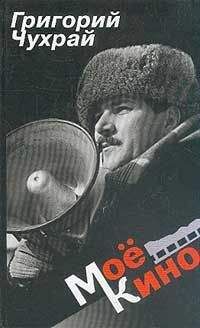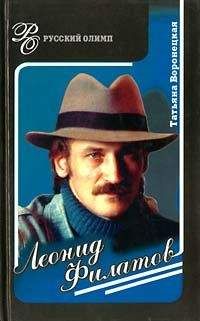Марк Захаров - Суперпрофессия
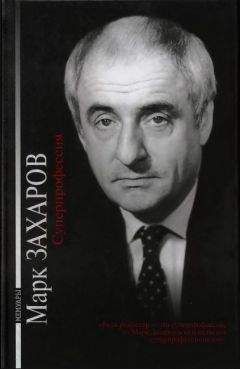
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Суперпрофессия"
Описание и краткое содержание "Суперпрофессия" читать бесплатно онлайн.
По мнению Марка Захарова, режиссер — это суперпрофессия, ибо он совмещает в себе черты драматурга и актера, художника и инженера и еще с десяток театральных профессий. А еще режиссер должен быть поэтом и политиком, дипломатом и хозяйственником, философом и… иногда просто тираном.
Если режиссер — это действительно суперпрофессия, то нельзя не признать, что Марк Захаров в ней является суперпрофессионалом. Иначе чем объяснить, что каждая постановка в возглавляемом им Ленкоме становится подлинным событием для театралов, а любители кино видят в фильмах Захарова только один недостаток — то, что они выходят на экраны далеко не ежегодно…
В своей книге Марк Захаров вспоминает о нелегком пути к вершинам своей суперпрофессии о многих забавных, а порой и грустных эпизодах, приключившихся на театральных репетициях и киносъемках, рассказывает об актерах труппы Ленкома Евгении Леонове и Татьяне Пельтцер, Олеге Янковском и Инне Чуриковой, Николае Караченцове и Леониде Броневом, а также о спектаклях и фильмах, уже вошедших в золотой фонд нашего искусства — "Тиле" и "Мюнхгаузене", "Юноне и Авось" и "Обыкновенном чуде", "Поминальной молитве" и "Убить Дракона"…
Издательство благодарит за предоставленные фотоматериалы А. Стернина и В. Плотникова
Чурикова поразила меня и в роли бабушки Антониды Васильевны в «Варваре и еретике». Особенно на первых спектаклях. Пишу в приступе дурной правды. У Шукшина есть очень полюбившаяся мне фраза: «И в приступе дурной правды он сказал ему, что его жена живет с агрономом».
Так вот, на репетициях мы добились в первой ее сцене особого принципа общения с генералом и всей его компанией. У Инны Михайловны нет непосредственно личного опыта общения с людьми, я бы сказал, в старомодно-номенклатурной манере. А я на эту манеру насмотрелся, вкусил в разных модификациях. Поэтому здесь были определенные трудности.
Сценический процесс, если чуть огрубить проблему, состоит всегда из серии разнообразных ударов по партнерам. Действенность (сила) этих ударов вовсе не зависит, например, от громкости или какой-то зримой активизации. Ужесточение в желании перевести партнера в ничтожную степень человеческой значимости — хорошая задача. Конечно, моя терминология страдает отсутствием внешней гуманности. Я считаю очень важным научиться «обижать партнера». Я так и формулирую это важнейшее актерское умение. Начиная со взгляда. Кстати, это в моей методологии очень важно: взгляд есть действие. В строгом соответствии с системой Станиславского. Можно так посмотреть — и получить пощечину или довести человека до слез.
Попробуйте назвать фамилию человека, к которому вы обращаетесь нормальным нейтральным тоном. Это будет один вариант сценического действия. А потом попробуйте произнести ту же самую фамилию излишне громко, нарочито деформировав свою дикцию. Это уже будет совсем другой вариант. Громкий, нарочито противный голос будет воспринят партнером, а стало быть, и зрителями как грубое разрушение человеческих отношений. В XIX веке это был повод для дуэли.
Повышение или понижение тембра — тоже мой режиссерский пунктик. Я считаю, что хрестоматийно воспринятая система Станиславского этот вопрос не разработала.
Вернемся к умению обижать партнера. Дело, скажу сразу, непростое, если не скатиться на примитивную, чисто театральную грубость, поскольку в настоящей жизни только и происходит, что «борьба за лидерство». Причем борьба постоянная, тотальная. Ее можно, при желании, разглядеть даже в любовных отношениях. Конечно, этические нормы, выработанные цивилизацией, сделали эту «борьбу за лидерство» не похожей на то, что происходит в львином прайде или волчьей стае, но, кстати… Кое-что в любом человеческом коллективе напоминает наше животное происхождение Стоит признать, что при сотворении человека многие поведенческие нормы были опробованы и усовершенствованы на наших меньших братьях.
Кто в коллективе неформальный лидер, кто занимает в иерархии сообщества второе место (официально или неформально — неважно) — очень интересная театральная и социологическая проблема. А какая интересная драматургия чаще всею скрытой борьбы разворачивается повсеместно за место рядом с вожаком, вождем, директором! Борьба за второе место — всегда борьба очень сложная и ожесточенная. Однако внешне ее можно и не заметить. Распознать иерархию в коллективе совсем непросто, тем более что это величина подвижная. Например, появилась на молодой женщине дорогая шуба — едва-едва, незаметно меняется походка и манера разговора, потому что владелица дорогой шубы перемещается на ступенечку выше. Это как случайный пример. Одежда играет роль, но весьма незначительную и не определяющую. Интереснее сама система общения со всеми ее нюансами.
Итак, в «борьбе за лидерство» важно понизить статут партнера. Разумеется, я не хочу представить нашу жизнь как сплошную драку, но жизнь сценическая (монтаж экстремальных ситуаций, пусть очень тихих и внешне мирных) может быть только борьбой. И в этой борьбе, как у борцов, весовые категории оказываются разными. Один владеет тремя-четырьмя приемами, другой (как правило, актер высокой квалификации) владеет тридцатью восемью, а может быть, ста двадцатью четырьмя способами понижения партнерского статуса. Иногда сценическому персонажу требуется едва заметное мини-понижение, а иногда хорошо (необходимо) применить смертельное.
В качестве смертельного удара крик как правило, не годится, даже яростный. Если кричишь, значит, можешь простить. Ссора на сцене (в отличие от кинематорафа) — вещь не слишком опасная. Ссоришься — значит, признаешь партнера за равного. Если я стал кричать на человека, значит, скорее всего, расставаться или «ликвидировать» его как личность не буду. Потом помирюсь.
Когда надо мной нависала смертельная опасность для моей дальнейшей режиссерской деятельности, никто на меня не кричал. Когда однажды вызвал министр культуры П. Н. Демичев для последнего предупреждения, он, помнится, голоса своего не повысил. Наоборот, говорил подчеркнуто тихо и вяло, как бы давая понять, что тратить на меня силы ему совсем неинтересно.
Между прочим, разговор (система общения) был, действительно, очень выразительным. Сесть он не предложил, я стоял у двери кабинета, а он, метрах в пятнадцати сидя за столом, начал после долгой паузы говорить бесстрастно и так тихо, что я только догадывался, что говорить-то он говорит, но что?
С Инной Михайловной Чуриковой в жизни никто так не разговаривал, а мне очень хотелось, чтобы ее Антонида Васильевна общалась с генералом, демонстративно не общаясь. Тихие, невнятные звуки Демичева тут не годились, говорить, с моей точки зрения, стоило внятно, но с оскорбительной бесстрастностью. Это как раз и стало сначала получаться, потом чуть-чуть позиция актрисы видоизменилась. Она стала тщательнее и подробнее взаимодействовать с партнерами.
Теоретически мы тут были единомышленниками (после некоторых дискуссий), но вот как практически скорректировать малозаметные отклонения — об этом можно рассуждать часами, но можно это сделать легко, за одну секунду.
В крохотном финальном эпизоде фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Инна Михайловна в роли баронессы вдруг впала на моих глазах в своеобразный транс, ее мышление затормозилось, она стала чем-то напоминать великую Ф. Г. Раневскую, и я уже тогда понял, сколь многими, еще нереализованными ресурсами располагает ее уникальный «актерский организм».
В кинематографических дебрях
Кинематограф разрушил на театре многие святые условности и изобрел условности новые, не столь явные, но утонченные, склонные к изыску. Он подарил нам ошарашивающий поток правды, бьющий по глазам и по сердцу. Актеры перестали красить губы и лепить носы: грим если и применяется, то как самостоятельное средство выразительности, а не как имитация правдолюбия. Захотелось тише и проще говорить, хорошо поставленные актерские голоса стали раздражать (хотя это не снимает в театре проблемы высокого лицедейства, шекспировских страстей и игры на котурнах). Наиболее чуткая театральная режиссура и наиболее чуткие актеры потянулись к экстравагантным, но предельно достоверным подробностям в поведении человека, стараясь почерпнуть их из арсенала скрытой камеры.
В кино мы впервые открыли для себя шокирующую нас истину: при некоторых особых условиях дилетант может быть выразительнее профессионала. Потом проверили на сцене — действительно может! На репетициях пьесы Арбузова «Жестокие игры» я стал выкрикивать из зала: «Так дилетант не поступит! Так дилетант не скажет! Так дилетант не задумается! У дилетанта так голос не зазвучит! Так может разговаривать только артист!» Интересно (и я об этом уже писал), что голосовые связки, скажем, у продавщицы в гастрономе вибрируют иначе, чем у актрисы, играющей продавщицу.
Полностью воссоздать облик того же торгового работника — один к одному — может либо совсем молодая актриса, которая еще не обрела прочных сценических штампов, не утеряла нитей, связывающих ее с нетеатральной жизнью, либо редкий по своему таланту и актерскому слуху зрелый мастер экстракласса. Но это отчасти из области мечтаний.
Впрочем, тот пафос, который вырвался из моего потока кино сознания, можно легко понизить, заземлить и полить изрядной долей скепсиса.
Пока мы еще вправе рассматривать кинематограф как самостоятельный вид искусства, но дни его самостоятельной жизни, по-моему, заканчиваются. Если согласиться с моим утверждением, что все мы со страшной и все возрастающей скоростью погружаемся в пучину космического телевидения, то кинематограф уже можно рассматривать как предварительную технологическую разработку общепланетарного или, точнее, вселенского телевидения. Все уплотняющиеся информационные потоки превращаются в окружающую нас виртуальную реальность. И очень скоро нам станет безразлично, каким образом получено изображение — с помощью кинокамеры, заправленной пленкой «Кодак», или способом цифровой видеозаписи шестого поколения, то есть когда видеозапись при взгляде знатока перестанет уступать кинопленке, а скорее всего (и я в этом убежден) — превосходить кинокопию по всем техническим и эстетическим параметрам.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Суперпрофессия"
Книги похожие на "Суперпрофессия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марк Захаров - Суперпрофессия"
Отзывы читателей о книге "Суперпрофессия", комментарии и мнения людей о произведении.