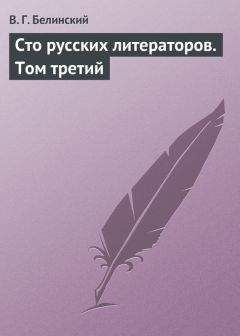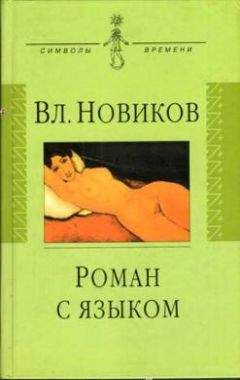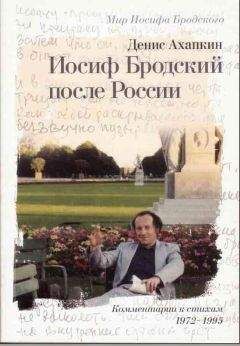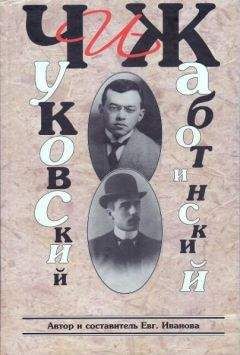А. Долинин - Владимир Набоков: pro et contra T2

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Владимир Набоков: pro et contra T2"
Описание и краткое содержание "Владимир Набоков: pro et contra T2" читать бесплатно онлайн.
В настоящее издание вошли материалы о жизненном и творческом пути Владимира Набокова в исследованиях как российских, так и зарубежных набоковедов. Многие материалы первого и второго разделов, вошедшие в книгу, являются результатом многотрудных архивных изысканий и публикуются впервые. Третий раздел составляют оригинальные статьи современных русских и зарубежных исследователей творчества писателя, не издававшиеся ранее в России.
Книга адресована как специалистам-литературоведам, так и широкому кругу читателей, и может служить учебным пособием для студентов.
Анри Бергсон писал, что «задача драмы находить и выводить на свет те глубины действительности, которые скрыты от нас — часто к нашему же благу — жизненной необходимостью…» и что она должна «раскрыть нам глубоко скрытую часть нас самих — то, что можно было бы назвать трагическим элементом нашей личности».[28] В Соб функцию выявления такого трагического элемента выполняет литературный подтекст, аллюзия или отсылка к определенному произведению, т. е. все те элементы поэтики Набокова, которые существуют, как показывает анализ подтекста Соб, вне жанра, практически без разграничения произведения на читаемое и исполняемое.
Заявляя проблему жанровости подтекста, нельзя утверждать, что в Соб и «Изобретении Вальса» подтекст полностью пропадает для зрителя. Слой глубокого литературного подтекста отразить в постановке невозможно, однако специальные драматургические аллюзии, например, на «Ревизора» и «Чайку» в Соб и «Три сестры» («На Пальмору, скорей на Пальмору!») в «Изобретении Вальса», которые вводит Набоков, сравнительно легко распознаются театралами. Вероятно, с учетом сложности восприятия литературного намека во время представления Набоков использует прием повтора наводящей фразы, естественный в драматургическом диалоге, но излишний в монологичной форме романа или рассказа. Таким образом в какой-то степени компенсируется невозможность по ходу представления остановиться и перечесть. Так, во втором действии Соб Вера говорит Писателю, что встречалась с ним «на рауте у H. H.». Для произведения любого другого жанра, от стихотворения до романа, этого прозрачного намека было бы достаточно, но в пьесе Набоков повторяет ключевую фразу и заостряет на ней внимание публики:
Писатель. На рауте у H. H. … А! Хорошо сказано. Я вижу, вы насмешница (140).
В паузе после отсылающих к «Евгению Онегину» слов актер изображает ту мыслительную работу по распознанию намека, которую должен совершить в этот момент хороший зритель (аналогичный набоковскому «хорошему читателю»). Следующее за паузой восклицание в идеале должно совпасть с моментом узнавания у зрителя, замечающего общее сходство между собранием гостей у Опаяшиной и собранием приглашенных на раут в доме князя N. в гл. 8 «Евгения Онегина». Вместе с тем развитие в образе Петра Николаевича черт пушкинского «сердитого господина» из XXV строфы этой главы остается в плане глубокого подтекста — за рамками возможностей постановки. Сходным образом в «Изобретении Вальса» Министр несколько раз называет Сальватора Вальса именем Сильвио, отсылающем к «фантастической драме в стихах» «Сильвио» (1890) Д. Мережковского, которая, как и «Изобретение Вальса», построена по мотивам драмы Кальдерона «Жизнь есть сон», с которой «Изобретение» обнаруживает многочисленные параллели. Но помимо драматургической отсылки, эти обмолвки призваны напомнить также, как заметил Р. Тименчик, пушкинского Сильвио из «Выстрела».[29] Можно сказать, что в этом случае пушкинский подтекст остается в тени драматургического, вводящего мотивы «Сильвио» Мережковского и, через него, Кальдерона.[30]
He обращая внимания на «карамазовский» подтекст в разговоре Барбошина, Трощейкин не задумывается и над следующей его странной репликой: «Пойду, значит, ходить под вашими окнами, пока над вами будут витать Амур, Морфей и маленький Бром» (161). Кто этот «маленький Бром», названный наряду с римским божеством любви и греческим божеством сновидений? На наш взгляд, мифологическая троица объединяет семью Трощейкиных в полном составе: во-первых, Любовь (лат. amor — любовь), во-вторых, Трощейкина (Морфея-снотворца и сновидца: «Трощейкин. Это, вероятно, мне все снится…» — 152) и, в-третьих, их маленького умершего сына: Бром — усечение от Бромий, одного из прозвищ Диониса, означающее «шумный». «Маленький шумный» намекает на шумного мальчика, разбившего мячом зеркало, и через него — на сына Трощейкина. Связью служит ключевая реплика Любови во втором действии: «Наш маленький сын сегодня разбил мячом зеркало» (146).
Щель
В зачине Соб Трощейкин, выйдя на авансцену, рассказывает Любови о картине, которую он задумал ночью во время бессонницы:
Написать такую штуку, — вот представь себе… Этой стены как бы нет, а темный провал… и как бы, значит, публика в туманном театре, ряды, ряды… сидят и смотрят на меня. Причем все это лица людей, которых я знаю или прежде знал и которые теперь смотрят на мою жизнь. <…> Тут и мои покойные родители, и старые враги, и твой этот тип с револьвером… (106–107).[31]
И сразу отказывается от своей идеи: «А может быть — вздор. Так, мелькнуло в полубреду <…> Пускай опять будет стена». Рассмотрение центральной темы стены, в которой выражен основной драматургический принцип Набокова, позволяет уяснить замысел Соб в связи с оппозицией внутреннего и внешнего конфликтов.
В «немой сцене» (д. 2) замысел Трощейкина воплощается зеркально: гости застывают под чтение Опаяшиной, Трощейкин и Любовь выходят на авансцену, и от собравшихся их отделяет средний занавес, на котором, согласно ремарке, вся группа гостей должна быть «нарисована с точным повторением поз» (145).[32] Затем Трощейкин говорит: «Наконец, я сам это намалевал, скверная картина — но безвредная» (147). Разница между замыслом и воплощением весьма существенна: по замыслу должны быть изображены знакомые ему лица — покойные родители, любовницы, Фобетор Барбашин («тип с револьвером»), сидящие в подобии зрительного зала, воплотилась же картина сидящих напротив зала, лиц, не выражающих ни досады, ни зависти, ни сожаления — чувства, которые Трощейкину хотелось изобразить, — бесчувственные «маски» в «полусонных позах», не люди, а «фигуранты» («в балетах плясуны последнего разряда, для полноты и обстановки прочих» — Словарь В. И. Даля).
Сопоставление замысла и воплощения наводит на мысль о том, что картина, задуманная Трощейкиным, — это замысел некой другой пьесы (вспомним, что подразделение акта в драме часто называлось картиной), с другими характерами, может быть, более глубокими, с другими отношениями, может быть, подлинными, а вместо этого получилась вампука, скатывание к буффонаде и фарсу.[33] Автор Трощейкин, таким образом, противоположен автору Федору Годунову-Чердынцеву, «штука» которого конгениальна роману «Дар». Версию о том, что Трощейкин — негодный автор Соб,[34] стимулирует характерное отождествление у Набокова рассказанного и показанного, романа и картины в идеальном плане: «Если бы сознание строилось по вариантным моделям и если бы книгу можно было прочесть, как охватываешь взглядом картину, то есть не трудясь следовать глазами слева направо и без абсурдности „начал“ и „концов“, то это был бы идеальный способ восприятия романа, ибо именно так, а не иначе, увидел его автор в момент зарождения»[35] (не для фиксации ли этого отождествления романа и картины даровитый художник в «Даре» носит фамилию Романов?). С другой стороны, отождествляется пьеса исполняемая и пьеса читаемая: в лекции «Playwriting» (1941) Набоков утверждал, что хорошая пьеса равно хороша и в свете рампы и в свете настольной лампы.[36]
Литераторша Опаяшина предлагает свое видение развития действия («ведь из всего этого могла бы выйти преизрядная пьеса» — 127) в пошлейшем драматическом русле («Может быть, он сам покончит с собой у твоих ног» — 127), Любовь примеряет роль пушкинской Татьяны пополам с Анной Карениной («Я ему с няней пошлю французскую записку, я к нему побегу, я брошу мужа, я… Набросок третьего действия» — 157), но все эти варианты — внутри «второстепенной комедии», поставленной Трощейкиным, неудача которого происходит от неспособности удержаться на высоте над мнимостью, подняться в своем творчестве над бредом и пошлостью действительности, от боязни «воскресить твоих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали» (269).
Такое понимание роли Трощейкина, творческому моменту которого подчиняются все прочие персонажи, согласуется с концепцией субъекта действия Н. Евреинова, считавшего, что в монодраме «возможен только один действующий в собственном смысле этого слова, мыслим только один субъект действия». Окружающие его люди предстают перед зрителем преломленными в его призме: «остальных участников драмы зритель монодрамы воспринимает лишь в рефлексии их субъектом действия, и следовательно, переживания их, не имеющие самостоятельного значения, представляются важными лишь постольку, поскольку проецируется в них воспринимающее „я“ субъекта действия. Они будут незаметно сливаться с фоном или даже поглощаться им, если в тот или другой момент они безразличны для действующего».[37]
He выдержав упоминания о сыне (чья смерть напоминает ему об опасности), когда Любовь говорит «Наш маленький сын сегодня разбил мячом зеркало» (146), Трощейкин «опускается» и, «сливаясь с жизнью», возвращается в состав персонажей второстепенной комедии. Настоящая опасность, о которой говорит Любовь («Опасность? Но какая? О, если б ты мог понять!» (145) и в начале д. 3: «Нет, я не об этой опасности собираюсь говорить, а вообще о нашей жизни с тобой» — 150) и которой не видит Трощейкин, это опасность навсегда остаться действующим лицом «второстепенной комедии», играя роль жалкого труса с претензией на творчество. Ответом на подлинность чувств Трощейкина со стороны Любови явилось то, что она назвала умершего ребенка «нашим» («Наш маленький сын…»), а с возвращением Трощейкина в обстановку комедии она говорит о нем «мой» («Когда мой ребенок умер…» — 150). Таким образом, Любовь безуспешно пытается отвлечь Трощейкина от темы события и подвести его к теме со-бытия.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Владимир Набоков: pro et contra T2"
Книги похожие на "Владимир Набоков: pro et contra T2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "А. Долинин - Владимир Набоков: pro et contra T2"
Отзывы читателей о книге "Владимир Набоков: pro et contra T2", комментарии и мнения людей о произведении.