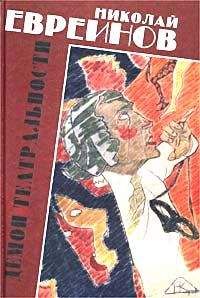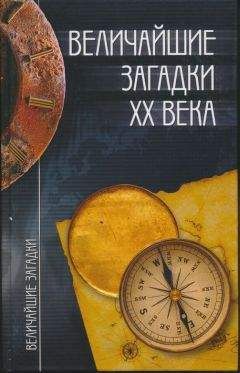Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Вокруг «Серебряного века»"
Описание и краткое содержание "Вокруг «Серебряного века»" читать бесплатно онлайн.
В новую книгу известного литературоведа Н. А. Богомолова, автора многочисленных исследований по истории отечественной словесности, вошли работы разных лет. Книга состоит из трех разделов. В первом рассмотрены некоторые общие проблемы изучения русской литературы конца XIX — начала XX веков, в него также включены воспоминания о М. Л. Гаспарове и В. Н. Топорове и статья о научном творчестве З. Г. Минц. Во втором, центральном разделе публикуются материалы по истории русского символизма и статьи, посвященные его деятелям, как чрезвычайно известным (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб), так и остающимся в тени (Ю. К. Балтрушайтис, М. Н. Семенов, круг издательства «Гриф»). В третьем собраны работы о постсимволизме и авангарде с проекциями на историческую действительность 1950–1960-х годов.
«Его душа была ареной вековечной борьбы идеала Мадонны и идеала Содомского.
Поэт „Лесбоса“ и чистой мистической озаренности, равно глубоко чувствующий обаяние Прекрасного, и певец Безобразного, целомудренный трубадур и слагатель гимнов в честь проституции, творец вдохновенных молитв и дерзостный ратоборец с Богом. <…>
Красота представлялась ему вначале двуликим божеством, один лик которого представлялся обращенным в сторону рая, а другой — в сторону ада. <…>
Безбрежность, то переступание за грани всем доступного и всеми ощущаемого, — вот область, куда устремляет свой бег редкая индивидуальность Бодлэра <…>
Далее, наступает период восторга экстаза и восторга созерцания. Новые тайны вскрываются поэту, искателю примирения „добра и зла“[1206]. <…>
Нет „рая“ и нет „ада“. Единый лик у красоты, у истины, у добра. Другой же лик лишь маска. И истинный лик направлен в сторону зла, в сторону жертв человеческой личности, которые необходимо принести, чтобы загореться „необычайной мечтой“, чтобы открыть в экстазе новое познание.
Отсюда роковое устремление в бездну небытия, запретную область для слабых человеческих сил, отсюда сатанинские проклятия поэта высшим силам, наложившим оковы на взмах творческой мысли, и гимны духу отрицания»[1207].
При этом хроникер неодобрительно отмечал, что докладчик «весьма раскланивался» перед Брюсовым и Бальмонтом.
В заключение имеет смысл сказать, что в то же самое время Эллис читал и другую лекцию о Бодлере, включенную в своеобразную трилогию — «Бодлер. Роденбах. Верхарн»[1208], более подробных сведений о которой нам обнаружить не удалось.
2. Б. В. Томашевский
Выдающийся литературовед Борис Викторович Томашевский (1890–1957) известен в первую очередь своими пушкинистскими трудами и исследованиям и по теории стиха. В отличие от многих и многих своих современников, в том числе и от близких ему авторов «формальной школы», он не печатал практически ничего, касающегося литературы современной. И если бы не сохранившиеся письма, мы скорее всего так ничего и не узнали бы о временами остром его интересе к текущей литературе[1209]. Но в обширной переписке с А. А. Поповым, выступавшим под псевдонимом Вир, именно современность становится сферой самого живого и пристального интереса, что очевидным образом было связано и с поэтическими попытками Томашевского, пробовавшего силы в изящной литературе.
Несколько слов о том, кто был адресатом этих писем и почему в них как будто неожиданно всплывает тема Бодлера.
Как мы узнаем из кратких биографических справок, приложенных к посмертным изданиям книг Томашевского, и из его некрологов, в гимназические годы он оказался замешан в школьных беспорядках и потому не смог поступить в Петербургский политехнический институт, а вынужден был учиться за границей — в бельгийском Льеже. Именно оттуда он писал длинные письма своему другу, готовившемуся к поэтической карьере. Карьера эта не задалась, да и сколько-нибудь заметной литературоведческой известности Александр Александрович Попов (1890–1957) не добился. Стихи печатались в журнале для дебютантов «Весна», доклады на пушкиноведческие темы звучали в «Обществе поэтов» (более известном как «Физа»), в соавторстве с Томашевским он написал не оставшуюся незамеченной статью «Пушкин и французская юмористическая поэзия XVIII века», однако далее как литературная фигура он практически исчезает из поля зрения современного читателя. Но весьма показательно, что и он, и Томашевский пристальнейшим образом интересуются французской поэзией, только времени более раннего — XVIII и начала XIX века. В конце концов Томашевский стал общепризнанным специалистом в этой теме, и книга «Пушкин и Франция» относится к классике русского пушкиноведения[1210].
Но речь идет о 1910 годе, когда он изучает технические науки в Льеже, а для полезного препровождения времени занимается современной русской литературой и ее истоками. Вот лишь единственный пример — фрагмент письма августа 1909 года из Иннсбрука:
«Вы отмечаете 2 факта: 1) Писатели, представлявшие литературу вчерашнего дня, пришли в тупик. 2) Появилась „обозная сволочь“. Но справедливо ли первое замечание? Пришел ли в тупик Сологуб, выпустивший, судя по отзывам, 2 великолепных сборника стихов и пишущий „Навьи Чары“? Пришел ли в тупик Мережковский, недавно напечатавший своего „Павла“, массу критических статей и, в частности, „Лермонтова“ и т. д.? Пришел ли в тупик Белый, выпустивший „Симфонию“ и „Пепел“, печатающий своего „Серебряного Голубя“ и тоже массу критических статей? Пришел ли в тупик Горький, после серой вереницы скучных книг „вдруг“ опубликовавший „Исповедь“? Наконец, Кузьмин <так!> — вся деятельность которого развилась после 1905 г. („после кот<орого> все покатилось вниз“), если не считать неважного дебюта, мало кем замеченного, в „Зеленом Сборнике“? А Куприн — разве в „Яме“ он более в тупике, чем, напр<имер>, в „Поединке“, и не после ли 1905 г. вы им восхищались (вообще, сообщите мне ваше последнее мнение о Куприне)? И Зайцев — чем последние вещи его хуже первых? А Ремезов <так!> — не после ли 1905 г. развился он? и т. д., и т. д. Нет, нет и нет. Русские писатели в тупик не пришли, и в настоящее время русская литература, быть может, единственная в свете избежала тупиков»[1211].
Именно на этом фоне возникает и фрагмент письма от 12 апреля 1910 года уже из Льежа, где звучит та нота истинно исследовательского мастерства, которая разовьется и вырастет в настоящую мелодию (только, повторимся, на другом материале) в позднейших работах Томашевского.
«Я упомянул, что ботаника зла Бодлэра подсказала Метерлинку его ботанику и зоологию душевных переживаний. И любопытно поэтому вспомнить один документ. Бодлэр, назвав сборник цветами зла, дальше этого не пошел. И это слово до известной степени случайно. Fleurs — просто перевод слова „антология“. Именно антологию зла и хотел дать Бодлэр, и дело современников и исследователей было принять слово за чистую монету и создать цитированную на I стр<анице> ботанику зла. И вот интересен в этом смысле фронтиспис Ропса к Брюссельскому изданию стихов, не вошедших в „Fleurs du Mai“, под названием „Les Epaves“. Этот фронтиспис я имел случай видеть в оригинале и сейчас у меня перед глазами репродукция. В центре — Смерть, из рук коей растет дерево, вокруг которого роем кружатся мотыльки и амурчики и какая-то крылатая и хвостатая женщина, дракон уносит на спине медальон с карикатурным профилем и буквами С. В. Но внизу — густо растут сорные травы, на кот<орые> нацеплены ярлычки с надписями: „superbia“, „ira“, „avaritia“, „libido“, „invidia“[1212], (и 2 мне непонятных — разъясните: „pieritia“ и „cula“[1213]). Разглядывая этот рисунок, я задумываюсь — не вышел ли отсюда весь метод „Serres Chaudes“ — наклеиванья ярлыков переживаний на цветы и животных? Мне не удалось установить дату этого рисунка, но, если не ошибаюсь, он относится к восьмидесятым годам. Очевидно, эта мысль — от антологии Зла к словарю аллегорий Зла (и вообще лирических переживаний) принадлежит не столько самому Бодлэру, сколько позднейшим литературным кружкам. Но, впрочем, этот вопрос и не столь интересен. Довольно схемы: тенденция исходит из Бодлэра, превращается в частную идею кружков и воплощается в методе „Теплиц“»[1214].
В этом пассаже обращает на себя внимание, прежде всего, стремление заменить довольно абстрактные рассуждения французских и особенно русских почитателей Бодлера чистым, не искаженным пониманием замысла и его воплощения. Создание «антологии Зла», о чем пишет Томашевский, весьма далеко, конечно, отстоит от демонизма, готовности служить Сатане и тому подобных привлекательных предметов, о которых приятно поговорить.
Во-вторых, это привлечение к разговору произведений другого рода искусства — изобразительного. Фронтиспис Ф. Ропса к «Книге обломков», о котором здесь идет речь, довольно известен[1215], однако возможность переноса общего его конструктивного принципа на природу литературы (причем, конечно, не только на «Теплицы» Метерлинка, но и на «Цветы зла») никому, сколько мы знаем, в голову не приходила.
Наконец, сопоставление «Цветов зла» с традиционными именованиями семи смертных грехов, замеченное (хотя и не истолкованное) Томашевским, — также в высшей степени не тривиально и заслуживает серьезного внимания современных исследователей.
3. Арсений Альвинг
Этот персонаж нашей статьи — самый малоизвестный среди ее героев, хотя в истории русской бодлерианы занимает далеко не последнее место. Арсений Алексеевич Смирнов (1885–1942) немало печатался до революции как поэт и критик, занимал видное место среди участников небезызвестных альманахов «Жатва»; после 1917 года также не прекращал поэтической деятельности, оставаясь все же маргиналом[1216].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Вокруг «Серебряного века»"
Книги похожие на "Вокруг «Серебряного века»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»"
Отзывы читателей о книге "Вокруг «Серебряного века»", комментарии и мнения людей о произведении.