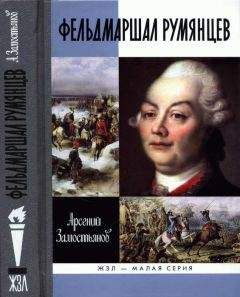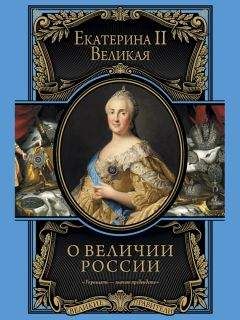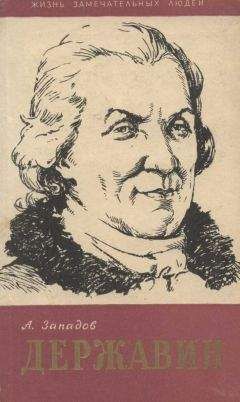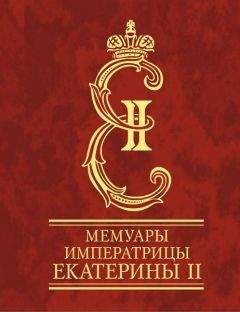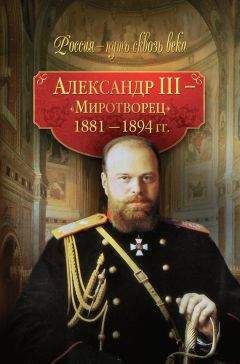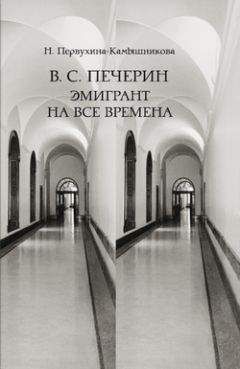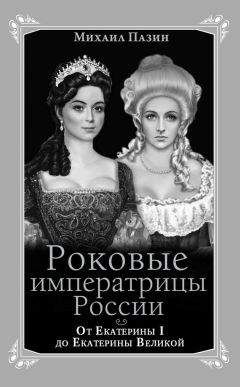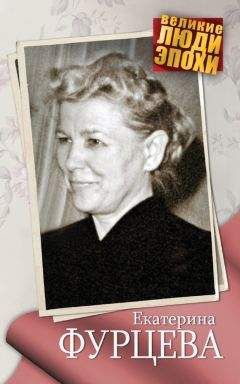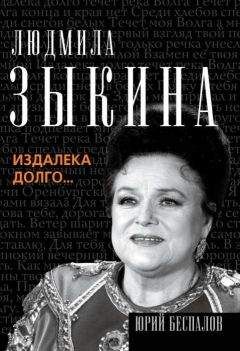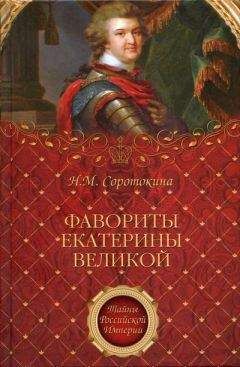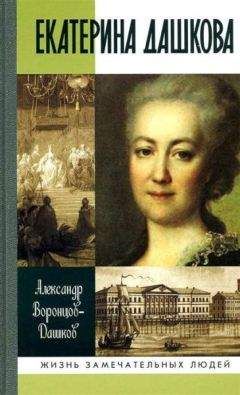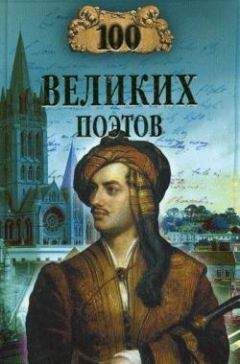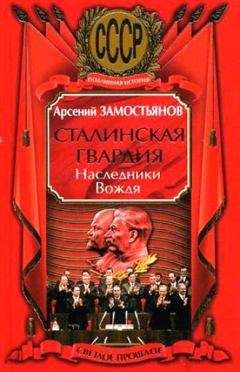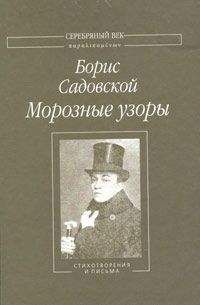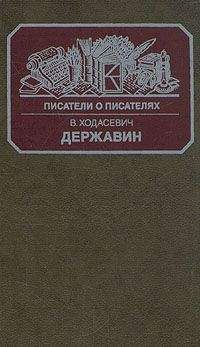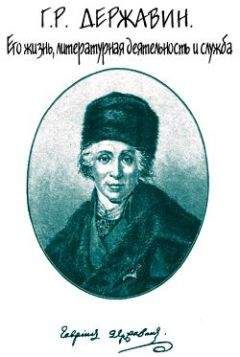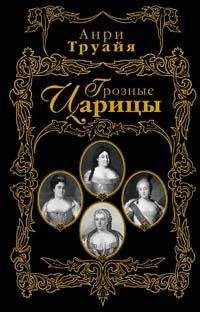Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...
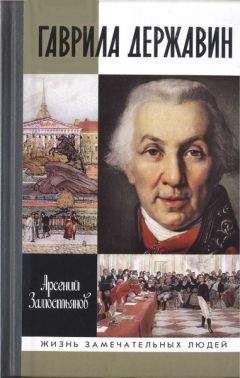
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."
Описание и краткое содержание "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать бесплатно онлайн.
Гаврила Романович Державин (1743–1816) — исполинская фигура в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в его судьбе были, пожалуй, не книги, не оды, не собрания сочинений. Сам себя он ощущал в первую очередь государственным человеком. В разные годы Державин занимал высшие должности Российской империи: возглавлял Олонецкую и Тамбовскую губернии, был кабинет-секретарём императрицы Екатерины Великой, президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции при императоре Александре. И при этом оставался первым поэтом Империи.
«Един есть Бог, един Державин» — так мог написать о себе только поистине гениальный поэт, и совершенно не важно, что это цитата из иронического по сути стихотворения.
Для многих из нас Державин остался в памяти лишь благодаря пушкинским строкам: уже на пороге смерти, «в гроб сходя», он «благословил» будущее «солнце нашей поэзии», лицеиста Пушкина. Но творчество самого Державина вовсе не устарело. Оно стало неожиданно актуальным в XX веке и остаётся таковым по сей день. «Многие дороги в России — литературные, политические, воинские — ведут к Державину» — так утверждает автор книги, историк и писатель Арсений Замостьянов.
знак информационной продукции 16+
Современники не сомневались, что Пушкин в «Памятнике» следовал не столько Горацию, сколько Державину. Не только число строк и строф у них совпадает, Пушкин явно соглашался с основной идеей Державина, но подчеркнул и собственное отличие от программы действительного тайного советника и министра… Державин воспевал императрицу — и считает это залогом собственного бессмертия:
О Муза! возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринуждённою рукой неторопливой
Чело твоё зарёй бессмертия венчай.
Пушкин о монархах не упоминает, для него важнее «милость к падшим». Существенная разница! И всё-таки традиция «русского „Памятника“» идёт не от Ломоносова, не от Капниста, а от Державина.
Сразу после смерти Державина, 24 сентября 1816 года, на чрезвычайном публичном собрании Казанского общества любителей отечественной словесности профессор Яковкин в порыве траурного красноречия высказал пожелание создать памятник поэту в его родном городе. Но сбор средств начался только в 1830-е годы. После долгих споров утвердили проект скульптора Гальберга и архитектора Тона — скульптор изобразил Державина в римской тоге, но черты лица перенёс с известных портретов поэта. «В 1843-м в Казань прибыла баржа с каменными деталями памятника. Приказчик судна обратился к прохожим с такой речью: „Народ прославленный! Вот приехала Держава и перевезти её надо, а как это сделать, если ты не поможешь? Народ православный! Помоги перевезти Державу!“». На салазках тяжёлые глыбы перевезли к университету. А открыли памятник 23 августа 1847 года. Такой монумент в тогдашней Казани воспринимался как чудо. Да и верно — первый в России публичный, не могильный памятник поэту! Через 20 лет казанцы порешили перенести достопримечательность от университета на главную площадь города. Журналисты откликнулись на это затратное мероприятие возмущёнными фельетонами. А горожане, если верить графу Салиасу, говаривали примерно так: «Это монамент генералу Державину. Он… при нашествии французов… Наполеона побил шибко».
А в 1930 году, в раже пролетарского гнева, памятник не пощадили. «Советское правительство низложило Державина с литературного трона и швырнуло последнего дворянина Казани с пьедестала на мостовую. Первым борцом за пролетарскую Казань был Емельян Пугачёв. На месте памятника Державину нужно поставить памятник Пугачёву, первому борцу за пролетарскую Казань», — ликовала «Красная Татария». Неистовые ревнители мировой революции давали последний бой патриотически настроенным коммунистам-реалистам… В 2003 году памятник восстановили — и слава богу.
ПРОЩАНИЕ
В пору руководства Коммерц-коллегией Державин совсем утратил расположение государыни. Правдолюбие его поднадоело, а новых забавных и лестных од почти не было. Не мог Гаврила Романович «воспламенить своего духа, чтоб поддерживать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями». Оставалось повторять удавшиеся ему жалобные стихи — невежливые по отношению к высочайшим заказчикам:
Поймали птичку голосисту
И ну сжимать её рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: Пой, птичка, пой!
Его уже не допускали к императрице! А генерал-прокурор Самойлов, торжествуя, «объявил ему, что ея величеству угодно, дабы он не занимался и не отправлял должности коммерц-коллегии президента, а считался бы оным так, ни во что не мешаясь». Разъярённый Державин написал прошение об отставке в таких выражениях, что Храповицкий побоялся зачитать его государыне. В тот же день Державин написал Платону Зубову одно из самых неистовых своих писем…
«Зная моё вспыльчивое сложение, хотят, я думаю, вывесть меня совсем из пристойности… я не запустил нигде рук ни в частный карман, ни в казённый. Не зальют мне глотки ни вином, не закормят фруктами, не задарят драгоценностями и никакими алтынами не купят моей верности монархине… Что делать? Ежели я выдался урод такой, дурак, который, ни на что не смотря, жертвовал жизнью, временем, здоровьем, имуществом службе и… государыне… Пусть меня уволят в уединении оплакивать мою глупость и ту суетную мечту, что будто какого-либо государя слово твердо…» — так писал президент Коммерц-коллегии. Почти крамольные мысли! В постскриптуме Державин извинялся, что посылает черновик письма, «ибо я никому не могу поверить сего письма переписывать, а сам перебеливать за расстройкою не могу, сколько ни принимался». Он отдавал себе отчёт, что это бунт!
Горячность Державина была всем известна, не раз (не без доли кокетства) воспета им самим. Но никто не даст ответа, насколько бесхитростен был поэт, когда отпускал вожжи. Никогда нельзя забывать, что Державин — опытный картёжник, что он разработал собственную систему игры, основанную на психологическом давлении… Он научился рисковать — но рисковать умеренно, хитро. Вот и в дерзостях Державина можно разглядеть тонкий замысел: игрок иногда позволял себе дать волю ярости и демонстрировал эти проявления сильным мира сего. Он знал, что под таким натиском всесильные вельможи иногда пасуют. Строптивого, но верного слугу Отечества выгоднее держать рядом, чем превращать его в серьёзного врага. А врагов у императрицы хватало. Разве можно забыть о придворной партии Павла Петровича — гатчинского затворника? Да, Панины низвергнуты, но угли гатчинские тлеют — придёт время, могут и вспыхнуть. Гатчина всегда представляла для великой императрицы потенциальную опасность. А Державин считался другом «русского Гамлета». Гаврила Романович предусмотрительно сохранял почтительные отношения с вечным наследником престола.
Ходасевич, пожалуй, преувеличивает силу разочарования певца Фелицы в своей героине. Скорее — после тяжких обид случались временные приступы ярости. Державин привык к падениям и взлётам, но после первого серьёзного успеха уже не считал себя неудачником — по-видимому, даже в глубине души. Он всегда помнил, что ещё недавно был нищим солдатом, которому оставалось скромно доживать свой век в казанской безвестности. А тут — пришли чины и ордена, выправилось финансовое положение, он стал собеседником государыни. Наконец, имя его было известно каждому просвещённому человеку в России. Так, что не вырубишь топором! Поэтому царскую немилость Державин воспринимал с горечью, подчас — взрывался, но в отчаяние не впадал. Разве автора оды «Бог» можно смутить переменой придворного ветра? Борьба с собственной гордыней для Державина была важнее карьеры. Если он и увлекался борьбой партий, то всегда осознавал греховность этой суеты. Греховность неизбежную.
Гаврила Романович старался следовать принципам, которые сам же провозглашал в стихах и трактатах. Елизавета Львова вспоминала один эпизод — трудно определить, к какому сенатскому расследованию он имеет отношение, это сюжет, весьма характерный для Державина:
«…Его упросили не ехать в Сенат и сказаться больным, потому что боялись правды его; долго он не мог на это согласиться, но наконец желчь его разлилась, он точно был не в состоянии ехать, лёг на диван в своём кабинете и в тоске, не зная, что делать, не будучи в состоянии ничем заняться, велел позвать к себе Прасковью Михайловну Бакунину, которая в девушках у дяди жила, и просил её, чтобы успокоить его тоску, почитать ему вслух что-нибудь из его сочинений. Она взяла первую оду, что попалась ей в руки, „Вельможа“ и стала читать, но как выговорила стихи:
Змеёй пред троном не сгибаться,
Стоять и правду говорить, —
Державин вдруг вскочил с дивана, схватил себя за последние свои волосы, закричав: „Что написал я и что делаю сегодня? Подлец!“ Не выдержал больше, оделся и, к удивлению всего Сената, явился — не знаю наверное, как говорил, но поручиться можно, что душою не покривил».
И такой оригинал сделал завидную административную карьеру! Факт удивительный, делающий честь и Екатерине, и Павлу.
Без колебаний Державин сочинял стихи на рождения и крещения внуков императрицы. Благословить младенца — святое дело. Краткую оду «На крещение великого князя Николая Павловича» (1796) считали одним из пророчеств Державина:
…Родителям по крови,
По сану — исполин;
По благости, любови,
Полсвета властелин:
Он будет, будет славен,
Душой Екатерине равен.
Во времена Павла эта аттестация воспринималась как дерзость: у императора сложилось нелестное мнение о душе покойной императрицы. Когда «умолк рёв Норда сиповатый», отпали запреты на восхваления Екатерины, но об этих стихах никто не вспоминал. Потом не стало Державина, а ещё спустя десятилетие скончался в Таганроге царь Александр Павлович. Вот уж тогда, после коронации Николая Павловича, многим вспомнилось, что Державин обещал ему высокую будущность, когда мало кто видел в очередном (не старшем!) внуке императрицы будущего государя… Даже Белинский скрепя сердце отдал должное этому «пророчеству Державина»: все 30 лет правления Николая I это стихотворение считалось одним из главных в наследии Державина.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."
Книги похожие на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."
Отзывы читателей о книге "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...", комментарии и мнения людей о произведении.