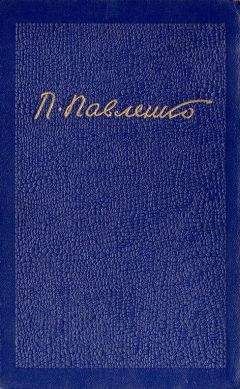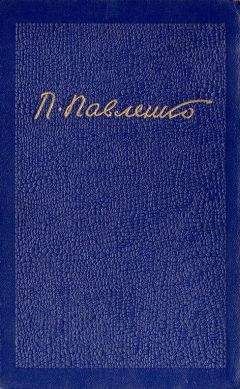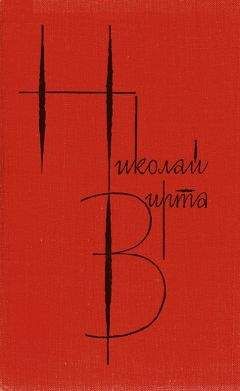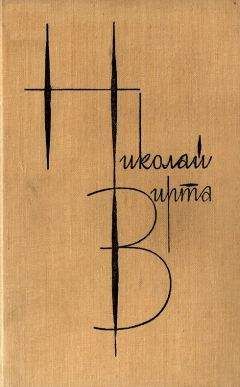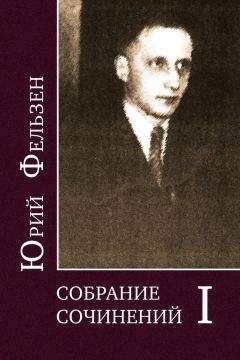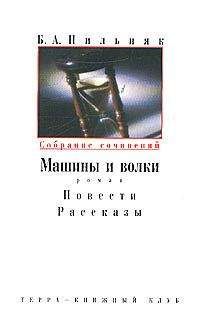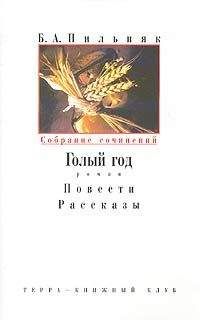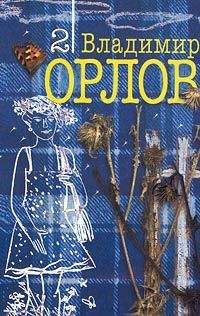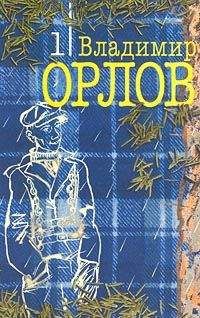Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II
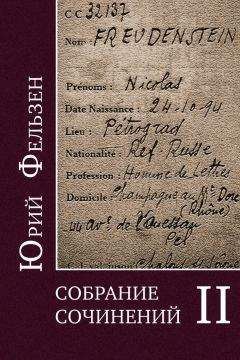
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Собрание сочинений. Том II"
Описание и краткое содержание "Собрание сочинений. Том II" читать бесплатно онлайн.
Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.
Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»
Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.
Порою случались и несправедливости, и мы любили негодующе критиковать учителей (из-за чего лишь развилась природная моя склонность к анализу), но бывало и так, что их возмутительные пристрастия совпадали с нашими до мелочей – хотя бы недооценка всех усилий Щербинина, никого не удивлявшая и как-то привычно-незаметная. Я с ним однажды гулял на большой перемене, и мы читали друг другу заданный отрывок из «Полтавы», причем он помнил наизусть несравненно лучше меня и мне укоризненно (быть может злорадно) сочувствовал – на уроке пришлось отвечать нам обоим, и я, от волнения, от неуверенности и стыда, еще более прежнего сбивался и путался, но спасла меня откровенная помощь Николая Леонтьевича, его подсказывание и мой ложный подъем в ударных местах. Щербинин же, как обычно, себе вредил унылой, хриплой своей скороговоркой, и вот Николай Леонтьевич (мягко спросив: «Что, поленился?») мне вывел отчетливую, стройную пятерку – мы знали отметки по взмаху руки, по движениям пера – а взволнованному Щербинину безнадежную тройку, и на его молчаливый, нескрываемый укор последовало безжалостное, в мою пользу, сравнение:
– Большому кораблю – большое плавание.
Потом несколько дней его дразнили этой фразой, и никто не подумал с ним возмутиться заодно. Впрочем и положение «хорошего ученика» оказывалось трудным, непрерывно ответственным: надо было оправдывать чужое доверие, неуклонно подтягиваться, бояться неудач, снижающих репутацию и явно-обидных для чьей-то незаслуженной, непрочной благожелательности. Весь этот страх я испытывал, уже будучи взрослым – и на службе, и в делах, и в любви – и нередко избегал давать какие-либо обещания, хотя стремление поскорее, сейчас же понравиться в конце концов перевешивало мою дальновидную осторожность. Я также постепенно заметил одну особенность, мне часто мешавшую себя немедленно проявлять – что я бывал как-то слишком занят собой, порою не мог от себя оторваться, себе казался непрестанно у всех на виду и вдруг не отыскивал нужных мне слов, даже зная, о чем я собираюсь говорить. Это свойство теряться и быть на людях скованным с годами возросло, мне всё более препятствовало, и только теперь – после житейской борьбы, после долгих всеустраняющих любовных волнений, после ударов, уничтоживших бессильное мое тщеславие – я как будто избавился от прежней «самопоглощенности», но, пожалуй, из-за нее навсегда сохранилась стеснительная моя ненаходчивость, замененная прилежной работой наедине, вынужденной необходимостью по-ученически готовиться к иным, даже несущественным, невыигрышным мелочам. Как ни странно, всё это мне благоразумия не прибавило – оно лишь перенеслось в те немногие области, где могло быть затронуто внешнее самолюбие, уязвленное «экспромтными» моими неудачами, в остальном же я сделался намеренно-безрассуден, точно перед собою устыдившись доказанно-скупой своей предусмотрительности и подражая в легкомысленной их щедрости талантливо-дерзким «победителям», столько раз при мне платившимся за свою широту. И теперь мое безрассудство всего очевиднее в области любовной, для меня самой опасной и важной, но не связанной с вопросами чести и самолюбия, тогда же, до первой ответственной любви, я пытался не отставать от Олениных и Штейнов, перенимая их шалости – и вовремя уходя. Впрочем дома, за отсутствием соперников и зрителей, я менялся и оттого не приводил к себе товарищей, боясь роняющей меня в их глазах, постыдной домашней своей примерности и неизбежных разоблачений у обеих сторон. Единственно, кого я полурасчетливо приглашал, был именно Щербинин, всему посторонний до слепоты и неспособный разобраться в нехитрой моей политике. У нас его хвалили (без особой горячности) за вежливость, за манеры, за французский язык, и он действительно не замечал того, что меня стесняло – разговоров о гимназии, о гимназических моих дружбах, о «культурных запросах», о вредных влияниях – не замечал у нас и некоторой обеспеченности, и твердой незыблемости внешних порядков, всей моей исключительности в нашем тусклом школьном кругу, среди убогой простоты, еле прикрытой у большинства других, им однако дававшей взамен «беспризорную», невольную свободу. Сердечнее всех к Щербинину отнеслась наша гувернантка, стареющая косоглазая француженка, с обязательным в детстве «шато» и обедневшими родителями, с исковерканной судьбой из-за неудачного романа, с непонятным благоговением перед русскими аристократическими именами – она отличалась от множества ей подобных какой-то искренней, веселой любознательностью и трезвой оценкой всего ей известного, моих родственников и товарищей (хотя бы понаслышке), семейных тайн у прежних учеников, газетных событий и бесчисленных курьезов. Я усвоил отрывочные познания в ее болтовне и с их помощью безжалостно ее дразнил (когда-то излюбленное мое развлечение): так одно укромное местечко в квартире она патриотически называла «chez Bismarck» – я догадался, чтобы ее изводить, это же самое называть «chez Gambetta» и громко радовался неукоснительному ее гневу. С умышленной наивностью я задавал ей вопросы о давних временах, о франко-прусской войне, как будто она была современницей и свидетельницей – такие намеки на возраст, пожалуй, особенно ее возмущали. Напоминая стольких людей неясного, промежуточного ранга, привычно волнуемых чужой отраженной жизнью и чужой, их приютившей средой, она не могла отрешиться от снобизма, для нее же унизительного, от призрачных кастовых подразделений и Щербинина сразу причислила к «petite noblesse», что его как-то глухо возвышало, правда, менее, чем другое его достоинство – неожиданная, им проявленная галантность: он целовал ей руку, здороваясь и прощаясь, а иногда, прижимая к сердцу свою, театрально восклицал – «la bella des bellas» – но благодушной иронии она не различала и его мне возводила в образец, я же со злости незаметно его чернил. Несколько раз и я бывал у Щербинина, в неуютной, какой-то голой обстановке. Мы подолгу сидели вдвоем (очевидно, тетку, к нему безразличную, не могли заинтересовать и его друзья) и вели неприятно-чувствительные разговоры, за холодным чаем в мутных стаканах, которые Щербинин сам из кухни приносил – я думал с тоской об этих посещениях и старался их по возможности избегать.
2.
Не помню, какой был день – вероятно, похожий на все, унылый, грязно-туманный, осенний – кажется, начинало подмерзать. Уроки шли обычным своим порядком – я аккуратно отмечал вызываемых на заранее расчерченном листе и ставил предположительные отметки (не только из любви к статистике, но и для того, чтобы вернее рассчитать, когда должен наступить мой черед – я давно уже беспроигрышно изучил несложную систему преподавательских вызовов, у каждого свою, одинаково легкую и косную, и на этом строилось мое «пятерочное» благополучие). Дежурный вяло докладывал классному наставнику, Николаю Леонтьевичу – того нет, другого и третьего – и назвал последним (по алфавиту) Щербинина. Санька Оленин, «присяжный остряк», крикнул с места: «Щербинин повесился», – подражая прерывисто-хриплому его голосу. Почему-то никто не засмеялся.
После гимназии Лаврентьев, Костин и я, почти не сговорившись, молча отправились к Щербинину – узнать о его здоровьи, сообщить заданные уроки – с непонятной и нам несвойственной предупредительностью. Я без конца в различное время и разным людям всё это описывал, и у меня поневоле выработался один из тех пространно-готовых рассказов, которыми – незаметно для себя – мы по нескольку раз докучаем тому же собеседнику, которых сами уже не слышим, так что они, от долгой затасканности, теряют первоначальную свою точность и выразительность, чем навсегда уничтожается какое-то «жизненное дуновение» в передаваемом, да и во всяком нашем прошлом, ему сопутствовавшем: такие готовые, часто повторяющиеся рассказы потом неизбежно словно бы застилают остальное, и всё случившееся между происшествиями, в них отмеченными, бесповоротно улетучивается из памяти. Мы также не видим округлений и ошибок, нечаянно возникших от словесной быстроты, от разговорной безответственности, от погони за успехом – это в дальнейшем меняет по следовательность событий и, конечно, становится неотъемлемой их сутью: так, перебирая разнообразные причины, нас троих заставившие пойти к бедному Щербинину, я приписал нам тяжелые предчувствия и затем неоднократно ими хвалился – их очевидно не было и быть не могло. Всё же постараюсь хотя бы приблизительно воссоздать свои впечатления и добраться до тогдашней непосредственности через пустые, давно омертвевшие слова.
Мы не успели удивиться распахнутой двери в передней, двум заплаканным пожилым женщинам и сладко-тошному запаху ладана, как вдруг очутились в единственной парадной комнате – посередине, на столе, возвышался гроб, и в нем лежало худое и длинное, как будто вытянувшееся тело Щербинина. К моим рассказам впоследствии привязалось туманно-искусственное слово – «парение»: мне кажется и сейчас, что именно таким (невесомым, непрочным, оторвавшимся от земли – и где-то парящим, недостижимо-далеким) я в первую минуту увидел Щербинина и лишь постепенно, из-за неожиданных слез Костина, под равнодушное бормотание бледной монашки, от сильной руки Лаврентьева, меня дружески взявшего под локоть, я в мертвом стал различать живые, знакомые черты – посиневшие острые пальцы на гимназической куртке, оттопыренные маленькие уши над новыми, фиолетовыми пятнами, прямую линию лба, переносицы и носа (внезапно обрывающуюся около губ, уродливо-четкую в лежачей неподвижности) и шею особенно-нечеловечески-удлиненную. Это запомнилось одними глазами и до сердца, до жалости не дошло – скорей уж появился зачаточный страх, меня как-то сблизивший с Лаврентьевым и Костиным в невольных поисках взаимной опоры. От них в одну секунду меня отделил простейший вопрос («Нет ли среди вас Ф.»), заданный старшей из обеих дам – по-видимому, теткой Щербинина – я почувствовал себя недаром названным по имени, виноватым и уличенным, и сразу ответственным за эту смерть, и потом даже гордился воображаемой своей виной, хотя вопрос был несомненно и безобидный и случайный. Перед уходом мы узнали, что оленинская шутка зловеще оправдана и что под утро Щербинин повесился, оставив коротенькую записку, без единого указания или намека.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Собрание сочинений. Том II"
Книги похожие на "Собрание сочинений. Том II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II"
Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений. Том II", комментарии и мнения людей о произведении.