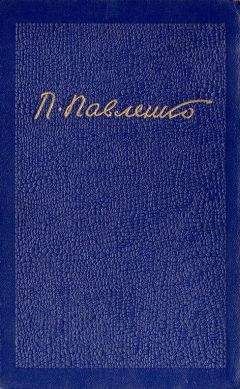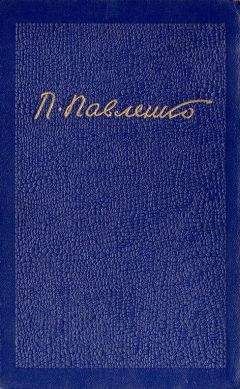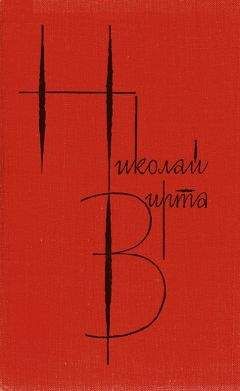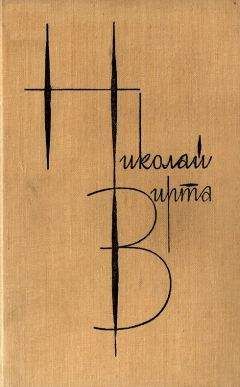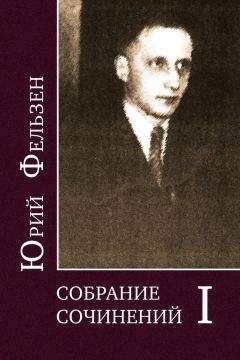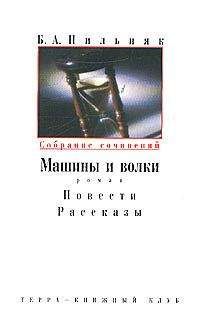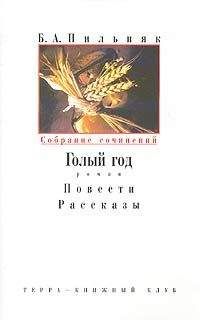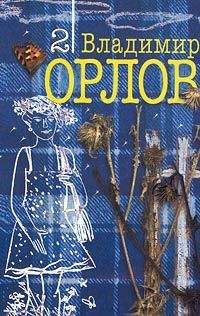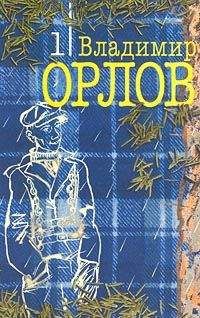Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II
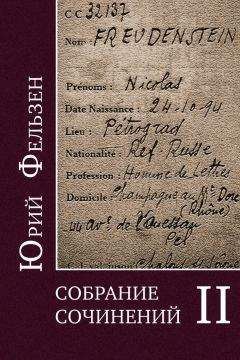
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Собрание сочинений. Том II"
Описание и краткое содержание "Собрание сочинений. Том II" читать бесплатно онлайн.
Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.
Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»
Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.
После гимназии Лаврентьев, Костин и я, почти не сговорившись, молча отправились к Щербинину – узнать о его здоровьи, сообщить заданные уроки – с непонятной и нам несвойственной предупредительностью. Я без конца в различное время и разным людям всё это описывал, и у меня поневоле выработался один из тех пространно-готовых рассказов, которыми – незаметно для себя – мы по нескольку раз докучаем тому же собеседнику, которых сами уже не слышим, так что они, от долгой затасканности, теряют первоначальную свою точность и выразительность, чем навсегда уничтожается какое-то «жизненное дуновение» в передаваемом, да и во всяком нашем прошлом, ему сопутствовавшем: такие готовые, часто повторяющиеся рассказы потом неизбежно словно бы застилают остальное, и всё случившееся между происшествиями, в них отмеченными, бесповоротно улетучивается из памяти. Мы также не видим округлений и ошибок, нечаянно возникших от словесной быстроты, от разговорной безответственности, от погони за успехом – это в дальнейшем меняет по следовательность событий и, конечно, становится неотъемлемой их сутью: так, перебирая разнообразные причины, нас троих заставившие пойти к бедному Щербинину, я приписал нам тяжелые предчувствия и затем неоднократно ими хвалился – их очевидно не было и быть не могло. Всё же постараюсь хотя бы приблизительно воссоздать свои впечатления и добраться до тогдашней непосредственности через пустые, давно омертвевшие слова.
Мы не успели удивиться распахнутой двери в передней, двум заплаканным пожилым женщинам и сладко-тошному запаху ладана, как вдруг очутились в единственной парадной комнате – посередине, на столе, возвышался гроб, и в нем лежало худое и длинное, как будто вытянувшееся тело Щербинина. К моим рассказам впоследствии привязалось туманно-искусственное слово – «парение»: мне кажется и сейчас, что именно таким (невесомым, непрочным, оторвавшимся от земли – и где-то парящим, недостижимо-далеким) я в первую минуту увидел Щербинина и лишь постепенно, из-за неожиданных слез Костина, под равнодушное бормотание бледной монашки, от сильной руки Лаврентьева, меня дружески взявшего под локоть, я в мертвом стал различать живые, знакомые черты – посиневшие острые пальцы на гимназической куртке, оттопыренные маленькие уши над новыми, фиолетовыми пятнами, прямую линию лба, переносицы и носа (внезапно обрывающуюся около губ, уродливо-четкую в лежачей неподвижности) и шею особенно-нечеловечески-удлиненную. Это запомнилось одними глазами и до сердца, до жалости не дошло – скорей уж появился зачаточный страх, меня как-то сблизивший с Лаврентьевым и Костиным в невольных поисках взаимной опоры. От них в одну секунду меня отделил простейший вопрос («Нет ли среди вас Ф.»), заданный старшей из обеих дам – по-видимому, теткой Щербинина – я почувствовал себя недаром названным по имени, виноватым и уличенным, и сразу ответственным за эту смерть, и потом даже гордился воображаемой своей виной, хотя вопрос был несомненно и безобидный и случайный. Перед уходом мы узнали, что оленинская шутка зловеще оправдана и что под утро Щербинин повесился, оставив коротенькую записку, без единого указания или намека.
Нам так и не открылась действительная причина его конца – я придумал нелепое романтическое объяснение, неразделенную любовь к миловидной барышне, о нем всплакнувшей на похоронах, должно быть, родственнице или знакомой, или просто жалостливой соседке: я больше не встречал никого из близких ему людей, и моя фантазия, не стесненная опровергающей реальностью, могла заходить как угодно далеко. Вероятно, были нелепы и другие мои предположения – будто Щербинин, излишне подозрительный, не вынес придирок Николая Леонтьевича и беспощадной нашей холодности, особенно моей. Правда, он пытался к нам подойти, но всё рассеянней, всё с меньшей надеждой, и жил чем-то уединяюще посторонним, увлекаясь модными книгами (о которых мы еле слыхали), неубедительно говоря о вычитанной в них мудрости, направленной против жизни и вскоре захватившей многих из нас: в то упадочное время наши старшие товарищи, подражая разочарованной, порою фальшивой усталости взрослых и кокетливой безутешности этих модных книг, выискивали способы себя не щадить, себя как бы растратить физически и духовно – в бесцельном молодечестве (играя своим будущим), в «огарческих» кружках, в легкомысленных самоубийствах (вслед за этим в нашей гимназии «на пари» отравился шестиклассник), находили иногда и героическое разрешение – тоже беспросветное, непростительно-раннее – в душном и вязком революционном подполье. Не знаю, поддался ли Щербинин одной только «моде», влияниям и книгам, но думаю теперь, спокойно и трезво, что он-то, пожалуй, не ошибался: ему были суждены одиночество и недооценка, незаслуженные обиды, завистливые мучения, и он среди общей нашей неприспособленности (через годы так страшно обнаружившейся) оказался бы слишком уже беспомощным.
Мы спешно с приятелями распрощались – каждый торопился со своею сенсацией домой: я позже неоднократно замечал – одинаково у себя и у других – как мы любим использовать всякую свою близость к чужому подвигу, к чужому самопожертвованию, страданиям, смерти, точно они и нас возвышают, хотя мы всего только «дешево отделались». Я не сочувствовал самому Щербинину (даже терзаясь душевной своей уродливостью), однако ждал нетерпеливо минуты, когда смогу домашних поразить, и смутно боялся, что при этом рассмеюсь, особенно в разговоре с нашей мадемуазель, которая примет мою новость с наибольшим удивлением и жалостью. Мне удалось лишь в зрелые годы частично избавиться от неприятного свойства – смеяться в лицо над чьими-либо неудачами, над плохими отметками или «разыгранными» учителями, над малышом, свалившимся от подножки, над карточным проигрышем, над освистанным оратором, над посрамленным и растерянным спорщиком, над бегущими и опаздывающими на поезд – нередко, читая газетные известия о далекой борьбе враждующих партий, о нарастании мировых событий, я азартно хочу ускорить чье-то окончательное поражение, и в основе то же смешливое злорадство, травля и добивание любых неудачников, вопреки собственным пристрастиям и природной искренней доброжелательности: у меня очевидно проявляются и повышенное чувство смешного, и темные внутренние силы, и какая-то нервная распущенность, и то неудержимое гибельное стремление, которое болезненно нас тянет кинуться с балкона или с моста, сказать невозможную, непоправимую грубость, напрасно обидеть нам преданную, кроткую возлюбленную. И в детстве и до сих пор – чтобы сразу же подавить неуместную улыбку, привязчиво-бесстыдный смешок – у меня всегда наготове достаточно грустные воспоминания: мне это – из-за долгой тренированности – всё более, всё надежнее помогает, но в иных соблазнительных случаях досадная моя склонность прорывается. Так вышло и с mademoiselle – увидев понятный ее испуг, я в упор неприлично-громко расхохотался.
В гимназии и дома загадочный поступок Щербинина несколько дней подряд обсуждался наперерыв. В классе никто не злословил, даже Оленин и Штейн, и высказывались ложно-обоснованные предположения в тоне снисходительности, напускной серьезности и опытности (будто мы временно под кого-то маскируемся), и так же – быть может, сердечнее – об этом говорил и Николай Леонтьевич, с оттенком сплетничества, доверительно-интимно разобравший все нами придуманные объяснения. Похороны были деловито-будничными – те же лица, гербы и шинели, тот же беспорядок и покрикивание учителей – и на улице, а затем на кладбище я не испытывал ничего, кроме колотья в ушах от сверлящего холодного ветра, и тоскливо ждал конца неприятностей, теплой комнаты, утренней газеты (помню, с какими-то сведениями о выборах, для меня увлекательной очередной «сенсацией»). Стыдясь ледяного своего равнодушия, я сделал попытку в себе пробудить естественное возмущение перед новой могилой – что она закроется и своей жертвы не выпустит, что мы согреемся, а Щербинин останется в мерзлой земле, что обидно так молодо умирать, но вялые общие эти мысли отпали, не тронув, как и всякое наше умничанье. Столь же искусственными оказались и сочиненные мноюстихи, начинавшиеся со слов «Октябрь на дворе, столица заволоклась туманом, как всегда» и заканчивавшиеся нравоучительно, под взрослого:Увы, хоронят молодого гимназиста,
Который слишком рано жизнь познал,
И, видя, что пути ее жестоки и тернисты,
Ее на смерть променял.
Стихи эти вскоре «затрепались» – не только по моей вине – и меня же стала отталкивать высокомерная их пустота, но Щербинина я по-прежнему не жалел и глухо радовался (как это бывало и впоследствии) исчезновению единственного свидетеля иных неприглядных моих сторон – в данном случае сентиментальных разговоров, смутных обязательств, постоянной беспощадности. И всё же мальчишеская моя бесчувственность не удержалась – она сменилась длительной связью с умершим, уже глубокой, похожей на «культ» и выбравшей два отчетливо-разных пути, которые изредка нечаянно скрещивались, однако не сливались и снова расходились.
Первый – тяжелые, навязчивые сны, возникшие по самому неожиданному поводу. Однажды вечером, блаженствуя в ванне (дней через десять после похорон), я – из ребяческого озорного любопытства – с головой погрузился в горячую воду, чтобы наглядно, приближенно себе представить, каково было Щербинину задыхаться, и от собственного ужаса, от дальнейшего сладкого освобождения вдруг ощутил его безвыходный конец. Это превратилось ошеломительно быстро в безвольную привычку, в какую-то странную одержимость: мне стоило остаться одному, как я судорожно пальцами зажимал ноздри и пробовал минуту не дышать, переносясь в предсмертное состояние Щербинина и всё более разделяя его мучения. Вероятно, были и другие причины, о которых я вспомнить не могу (или случившееся не сразу до меня дошло – наша «реакция» часто запаздывает, не поспевает за самим восприятием), но мне, именно поглощенному этой подражательно-самоубийственной игрой, впервые ночью приснился бледный, мертвый Щербинин, с теми синими пятнами, которые были у него в гробу, и всё же воскресший, способный двигаться и говорить – он крепко схватил мою руку своей холодной, как при жизни, рукой и повел меня куда-то наверх по длинной, страшной винтовой лестнице, причем я знал, что мы взбираемся на башню (не то вроде Вавилонской, по наивным библейским картинкам, не то на пожарную каланчу), затем он кинулся вниз и увлек меня за собой, и тогда я проснулся, дрожащий, невыразимо потрясенный. В квартире все спали, ничьей поддержки быть не могло, и я, как будто парализованный и темнотой и своим одиночеством, как будто находясь в присутствии, во власти мертвеца, особенно боялся уснуть и вызвать его неизбежное и слишком ощутительное появление. Это стало повторяться каждую ночь – по многу раз, едва я засыпал – и мой ужас не уменьшался, скорее даже усиливался, точно падало разумное сопротивление остатков уравновешенности и трезвости. Всё нестерпимее делалась пугающая, мстительная темнота, и часто вечером – из кабинета или гостиной – не имея мужества добраться до выключателя, я убегал в освещенную детскую, где наваждение немедленно проходило. Я себя уговаривал, что это не трусость, что у меня болезненные видения – хотя я к ним и не склонен, хотя таинственное мне чуждо и недоступно. Но потом, когда от возраста исчезла моя задетость, я – упрямо защищая ослабленную чувствительность (с таким упрямством защищают любовь), как бы спасаясь от сухости и скуки, – я себе навязывал эти же мрачные видения, и лишь последняя, грубо-искусственная попытка (студентом, в Крыму, среди пустынных улиц и бесконечных глиняных стен) разоблачила мой самообман: мне было нужно вот так по-взрослому себя осудить, чтобы навсегда отрешиться от соблазнительных выдумок. Я уже признавался, как меня возвышало романтическое вранье о Щербинине, лживо-тягостная моя виновность, легковесные предположения о расплате, к чему и сводилась вторая, внешняя сторона неразрывной моей с ним близости – и это выходило еще убедительнее от пережитых, неподдельно-страшных ночей (здесь явно скрещивались оба моих пути), и я, разумеется, удерживал (пока не явилась всё та же ироническая взрослость) простейшую возможность рисоваться столь тщеславными о себе рассказами перед напуганными, взволнованными гимназистками, при вечной моей стеснительности и неловкой ухаживательской робости.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Собрание сочинений. Том II"
Книги похожие на "Собрание сочинений. Том II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II"
Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений. Том II", комментарии и мнения людей о произведении.