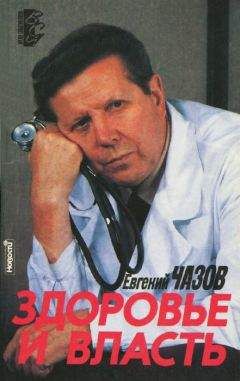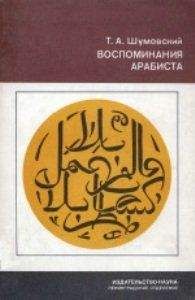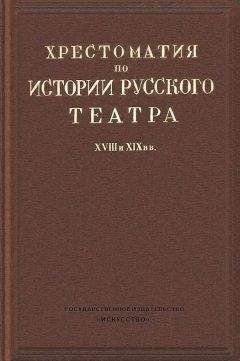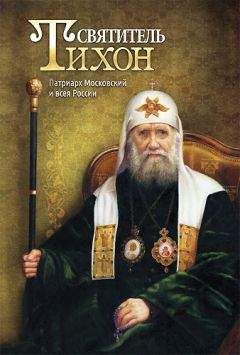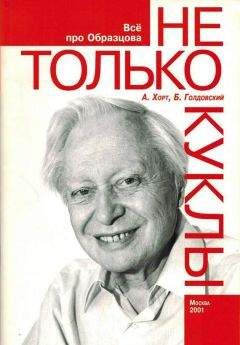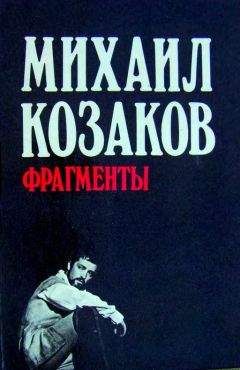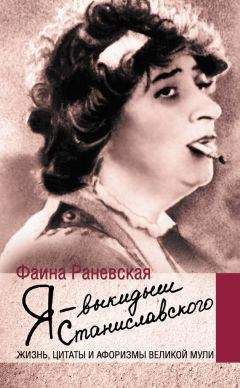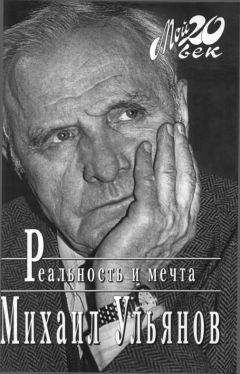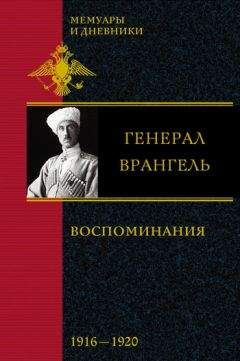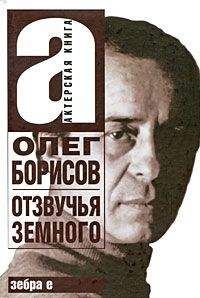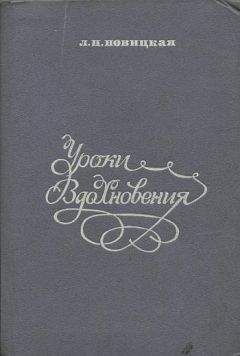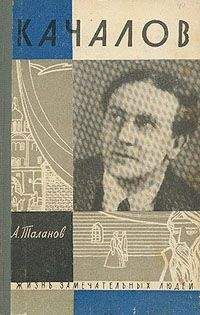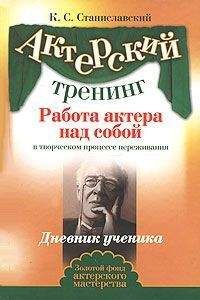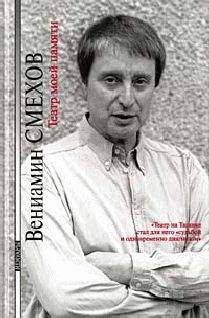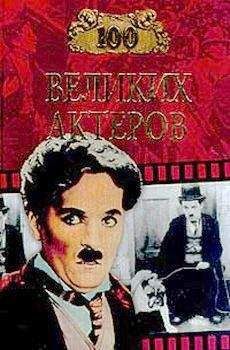Елена Полякова - Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура
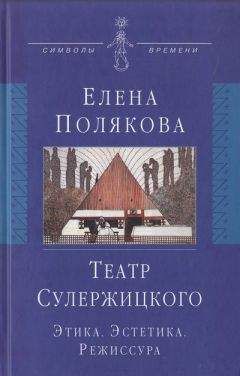
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"
Описание и краткое содержание "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура" читать бесплатно онлайн.
Эта книга о Леопольде Антоновиче Сулержицком (1872–1916) — общественном и театральном деятеле, режиссере, который больше известен как помощник К. С. Станиславского по преподаванию и популяризации его системы. Он был близок с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, М. Горьким, со многими актерами и деятелями театра.
Не имеющий театрального образования, «Сулер», как его все называли, отдал свою жизнь театру, осуществляя находки Станиславского и соотнося их с возможностями актеров и каждого спектакля. Он один из организаторов и руководителей 1-й Студии Московского Художественного театра.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей театра.
Извиняюсь, я далеко не исчерпал темы, назвал только некоторые имена как в положительной, так и отрицательной стороне дела, но я хотел только иллюстрировать свои положения и не собирался делать оценки отдельным исполнителям. Надеюсь, что мне простят. Я хотел только обратить внимание на серьезность положения.
Я лично далеко не уверен в такой уж несомненной необходимости существования театров вообще — театр не составляет в моей жизни альфы и омеги, — поэтому хочу указать еще на одну сторону дела, хотя, может быть, вы и сами обратили на нее внимание.
Вспомните, чего стоит постановка такой пьесы, скажем, как „Синяя птица“?
Сколько нервов режиссеров и актеров, сколько труда, порой насилия и даже жестокости выпадает на долю людей, создающих пьесу с другого ее конца, со стороны красок, холста, вообще ее материального воплощения?
Люди по ночам строгают в холодной мастерской, что-то паяют, куют в чаду горна, техники портят себе глаза на всю жизнь, работая при фонарях, маляры чахнут в душном воздухе мастерской, вдыхая пыль ядовитых красок, портные, бутафоры, лепщики — целая армия людей, которые, хотя и не посвящены в художественный замысел целого, отдают свои жизни для создания пьесы. Пьесы, которая через несколько спектаклей, показанных людям, в сущности мало в них нуждающимся (первые абонементы), становятся пустым звуком, „кимвалом бряцающим“.
Мы платим всем рабочим. Об этом не стоит говорить — здесь не место. Одно только очевидно — никто из нас с ними добровольно местами не поменяется. А потому, если мы уже пользуемся этой несправедливостью, то должны иметь на это хотя бы некоторое нравственное право, которое возникает только у художника, отдающего всего себя искусству.
А иначе — это ремесло, „хорошо оборудованное дело на полном ходу“. Очень хорошо оборудованное.
Все идет чисто. Ходят надсмотрщики от дирекции: Сулержицкий, Александров, Мчеделов; ходит надсмотрщик от труппы: Леонидов, — все приведено в порядок. И правда — смеха, балаганства на сцене нет, все вовремя на местах, а если какой-нибудь фонарь, освещающий внутренность очага, замигает, то это преступление уже занесено в протокол, — сделано три выговора — интеллигентный, домашний и неинтеллигентный, — виновный наказан.
Но и это теперь бывает редко… Все в порядке — музыка играет, черный бархат опускается, поднимается, хронотопы мелькают, актеры говорят, кричат, машут руками…
Фабрика в полном ходу.
Разве это не страшно? Для чего все это?
Где жизнь? Как ее вернуть? Как удержать?
Л. Сулержицкий».[Затем следует примечание К. С. Станиславского.]
«Протокол прекрасно выражает мои муки и опасения. Очень будет жаль, если товарищи отнесутся к этому протоколу холодно или недружелюбно. Желательно, чтобы каждый серьезно вник в смысл и повод, заставивший с такой горячностью писать эти страницы. Было бы ошибкой думать, что этот протокол преувеличение… На моих глазах совершилось то, чего боится Лев Антонович. Во времена Шумских и Медведевых не было случаев, чтобы пьеса разлаживалась. После них пьесы были свежи два-три спектакля. А теперь… И все это случилось с седовласым могиканином, создавшим русское искусство в период десяти-пятнадцати лет.
И странно… Лев Антонович ни одним словом не упрекает к нерадении, в отсутствии дисциплины, в нежелании. Напротив. Значит, кроме дисциплины и порядка есть что-то другое, что может подтачивать художественное дело.
Есть ремесло актера (представление) и есть искусство переживания.
Никогда наши и вообще русские актеры не будут хорошими ремесленниками. Для этого надо быть иностранцем. Наши артисты и наше искусство заключается в переживании.
Каждую репетицию, каждую ничтожную творческую работу нужно переживать. Этого мало. Надо уметь заставить себя переживать.
И этого мало — надо, чтобы переживание совершалось легко и без всякого насилия.
Это можно, это достижимо, и я берусь научить этому искусству каждого, кто сам и очень захочет достигнуть этого.
Согласен с Л. А. — в этом и только в этом будущее театра.
Без этого я считаю театр лишним, вредным и глупым.
Теперь я свободен. В будущем сезоне буду очень занят.
Впредь я отказываюсь работать по каким-нибудь иным принципам.
Приглашаю всех, кто интересуется искусством переживания, подарить мне несколько часов свободного времени. С понедельника я возобновляю занятия.
В первом часу дня я буду приходить в театр для того, чтобы объяснять ежедневно то, что театр нашел после упорных трудов и долгих поисков.
Организацию групп и порядка в очереди я на себя не беру.
К. Алексеев».Вопрос «Где жизнь? Как ее удержать?» все живет и будет жить, пока существует театр. Не в киновариантах, не в сайтах Интернета, не в фонограммах и голограммах. Но только в театре человека-актера, являющегося на сценической площадке по команде — «Ваш выход!»
«Синюю птицу» Сулер любил как свое создание. Часто бывал на спектаклях. Вводил новых исполнителей, подкрашивал диапозитивы — проекции для «волшебного фонаря».
В тогдашних репертуарных планах театра появляется самая трудная пьеса мировой классики. Самая загадочная пьеса мировой классики. Играемая бесчисленно, остающаяся пьесой — мечтой каждого режиссера. Заглавная роль — мечта каждого актера. Пьеса «Гамлет». Ставить ее приглашен Гордон Крэг.
* * *Свести режиссера Станиславского с режиссером Гордоном Крэгом задумала Айседора Дункан. Россия — Англия. Сын великой актрисы Элен Терри, с молодости сам знаменитый актер, еще более знаменитый художник и режиссер. Он получает от своей возлюбленной, то есть от Айседоры Дункан, письмо — оду Художественному театру в целом и великому Станиславскому в частности. Начинается переписка; осенью 1908 года Крэг уже смотрит в Камергерском «Дядю Ваню». Провозглашает Станиславского величайшим актером, его театр — величайшим театром. Театр понимает, что Крэга нужно пригласить на постановку классической трагедии. Театр сам устремлен к трагедии. Предусмотрительно командирует в Данию (Эльсинор!) художника Егорова, тот привозит уйму набросков для реально-исторического спектакля, и Станиславский видит будущий спектакль таким: холодное море, замок в снежной пелене, витязи-викинги пируют в замке. Станиславский увлеченно работает над этим замыслом, Сулержицкий ведет подробные записи за Станиславским. «Гамлету» Художественного театра будет посвящена книга — монография Николая Николаевича Чушкина «Качалов — Гамлет»[4].
Николай Николаевич, будучи сотрудником Музея Художественного театра, попросил Станиславского уточнить замысел «егоровского Гамлета». Оказалось, что Станиславский забыл не только подробности — всю работу над «первым Гамлетом»: все заслонил замысел Крэга, новаторство его решения, противоборство методов режиссера и актеров.
Про-Гамлет сохранился в эскизах Егорова, в записях Сулержицкого. Гораздо больше записей пришлось ему делать по Гамлету Крэга. Спектакль будет показан в 1911 году. В постановке Гордона Крэга и Станиславского. Режиссер — Сулержицкий. Его имя упоминается Станиславским в связи с переводом «Гамлета». Крэг воспринимает русский перевод на слух. Сравнивает звучание подлинника и перевода, конечно, все время требует уточнений, объяснений, тем более что текст сокращается, составляется из нескольких переводов. Консультанта по переводу в то время в театре не существует.
Сулеру выпадает доля объяснять Крэгу недоумения, следить за синхронностью шекспировского текста и русского перевода, не допуская искажения смысла. Так что и лингвистический опыт входит в обязанности Сулержицкого. Вероятно, он усовершенствовал свой разговорный английский язык в 1908–1911 годах. Постоянно общаясь с Айседорой Дункан. Ежедневно общаясь с Крэгом на репетициях, над эскизами оформления костюмов, обуви, кольчуг, мечей. Общаясь с ним в поездках по Москве, на встречах с театральными деятелями Москвы и Петербурга. В постоянном посредничестве с исполнителями крэговских замыслов. Крэг говорит по-английски, по-французски, по-итальянски; Станиславский общается больше на французском; легче всех Книппер-Чеховой, играющей королеву, объясняющей мхатовцам, чего хочет Крэг. В общем-то все они — художники, поэтому понимают друг друга, воспринимая восклицания, интонации, жесты. Язык их — некое эсперанто людей одной профессии. В самой профессии слияние не возникает. Мечта Айседоры о полном триумфе Крэга — режиссера, художника, поэта, ее возлюбленного, отца двоих ее детей — эта мечта так и остается неосуществленным идеалом. В очередной свой приезд в театр Крэг требует прежде всего, чтобы рядом был Сулер. Все улыбаются их появлению: снова Крэг в русской шубе, в меховой шапке. Высокий, статный, белокурый, с точеным профилем, повторяющим черты Элен Терри. Голос обворожителен, жесты царственны; рядом — быстрый человечек в матросском свитере, в легкой куртке. Крэг требует постоянной опеки в быту, то он капризно-раздражителен, то по-детски беспомощен, то меркантилен в материальных расчетах с театром. Крэг привык, что Сулер неотлучен от него за обедом, в прогулке по московской улице, по Кремлю, по снежному Подмосковью. Крэг привык к тому, что Сулер — режиссер «Гамлета», осуществляющий на сцене его мысли.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"
Книги похожие на "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Полякова - Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"
Отзывы читателей о книге "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура", комментарии и мнения людей о произведении.