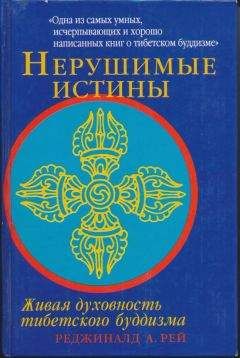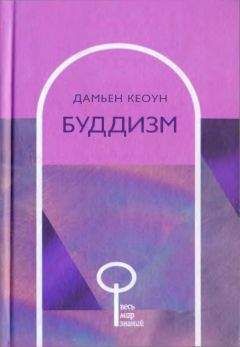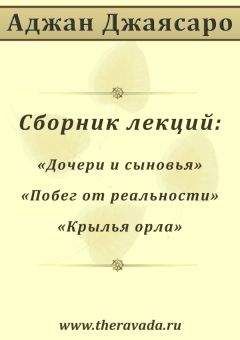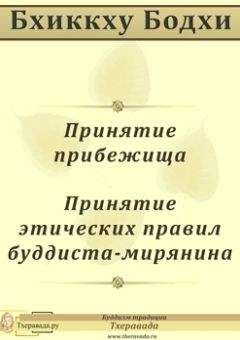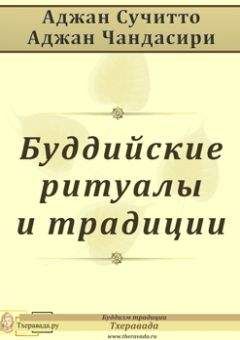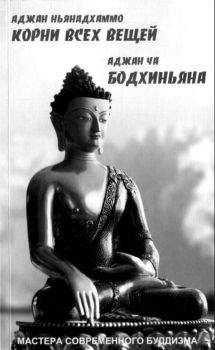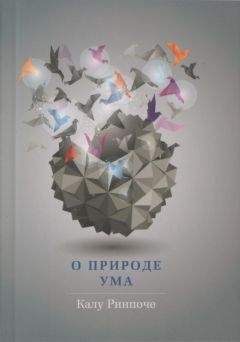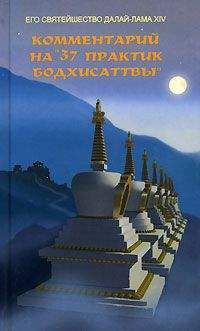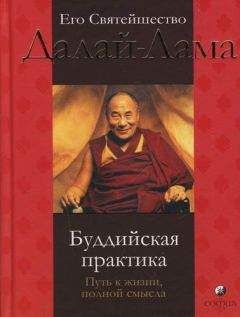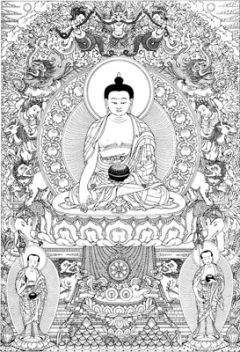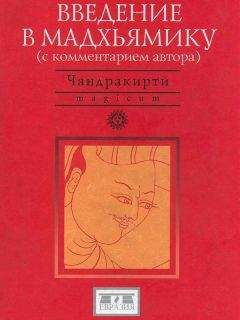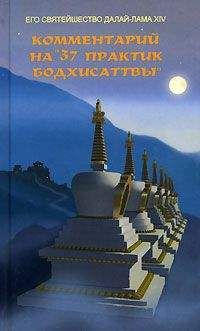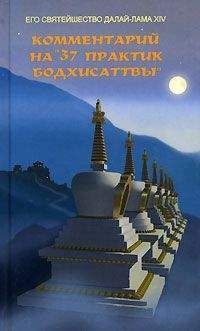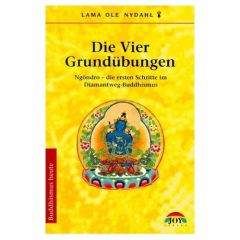Александр Пятигорский - Введение в изучение буддийской философии
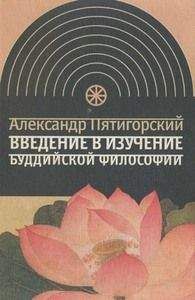
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Введение в изучение буддийской философии"
Описание и краткое содержание "Введение в изучение буддийской философии" читать бесплатно онлайн.
Книга философа и писателя Александра Пятигорского представляет собой введение в изучение именно и только философии буддизма, оставляя по большей части в стороне буддизм как религию (и как случай общего человеческого мировоззрения, культуры, искусства). Она ни в коем случае не претендует на роль введения в историю буддийской философии. В ней философия, представленная каноническими и неканоническими текстами, дается в разрезах, каждый из которых являет синхронную картину состояния буддийского философского мышления, а все они, вместе взятые, составляют (опять же синхронную) картину общего состояния буддийской философии в целом — как она может представляться философскому мышлению сегодняшнего дня.
Это, однако, станет возможным только при условии, что мы искусственно сконструируем какой-то другой, трансцендентальный уровень прагматики нашего текста. Такой уровень, с точки зрения которого будет вообще невозможна ни чистая прагматика, ни чистая теория, уровень, на котором все сплавляется в едином Запредельном Знании. Это — уровень Будды, Господа. Заметим, что во фрагменте (0) Будда призывает Субхути обучать Бодхисаттв, как тем следует продвигаться в Запредельном Знании, а не сам их обучает. Этим предполагается отсутствие иерархии обучения Запредельному Знанию, но зато вводится другая иерархия, иерархия сверхъестественной силы или мощи. Оказывается, что одно дело — это собственная сверхъестественная сила Субхути, посредством которой он излагает Запредельное Знание, а совсем другое дело — это магическая мощь Будды, которой Господь создает всю ситуацию диалога в целом, включая ее участников, ландшафт и все такое прочее. Более того, только этой мощью присутствующие Бодхисаттвы слушают Субхути и задают ему вопросы. Тогда, я думаю, будет иметь смысл предположение, что субъект Запредельного Знания — это субъект той или иной сверхъестественной силы или мощи. Впоследствии эти силы и мощи нашли свою мифологическую манифестацию в виде особых «умственных тел», созданных Бодхисаттвами в состоянии трансцендентального самадхи и особенно в виде «Божественных супруг» Бодхисаттв, шакти, сыгравших весьма важную роль в буддийском тантризме.
(1) Но что такое Бодхисаттва? На этот вопрос, дебютный в почти любой философской дискуссии в ранней махаяне, абхидхармистским ответом было бы: Бодхисаттва — это дхарма, одна из дхарм, точнее, дхарма, обозначенная словом «бодхисаттва». Но здесь-то и начинается эпистемологическая критика этого понятия с точки зрения уже давно сформулированной в Абхидхарме узко эмпирицистской позиции: «Какая такая дхарма, — говорит Субхути, — не вижу я такой дхармы, Бодхисаттва — это не более чем название, слово, звукосочетание, а не то, что этим словом обозначается, то, что невидимо, неслышано, непредставляемо, невоспринимаемо и т.д.» Я думаю, что этот дуализм, «дхарма/ее условное обозначение», является основной чертой эпистемологии Запредельного Знания. Но дальше, в том же фрагменте, Субхути спрашивает с деланным недоумением еще «не исправившегося» философского реалиста: «Но если так, то кого же тогда я буду наставлять в Запредельном Знании, если и последнее есть не более чем название — никого буду наставлять ни в чем?» Но каков бы ни был ответ, он уже не поставит в тупик Бодхисаттву, утвердившегося в Запредельном Знании, который сам исходит из дуализма «невидимая, немыслимая и т.д. дхарма/видимое, слышимое, мыслимое и т.д. слово, ее обозначающее». Такой Бодхисаттва не озаботится проблемой, есть ли дхарма «Бодхисаттва» или нет. Тем не менее из «Восьмитысячника» все-таки следует, что (вне зависимости, есть он или его нет) он — дхарма, которая есть или которой нет.
(2) Итак, переход от идеи Бодхисаттвы ко второй важнейшей идее буддизма Большой Колесницы — Мысли Пробуждения производится посредством редукции последней к мысли (образом, по сути дела аналогичным тому, каким в предыдущем семинаре мысль была редуцирована к Мысли Пробуждения). Однако в сутре делается ход напрямик к онтологии Запредельного Знания, вводится понятие (состояния) не-мысли, которая не может ни существовать (возникать), ни не-существовать. Таким образом, проблема существования сводится (почти так же, как в классической Абхидхарме) к существованию или несуществованию мысли. Последнее, я думаю, почти не встречается в истории древней философии (ведь и Парменид говорил, что мышление есть мышление о бытии, но никогда бы не сказал, что бытие есть мышление о бытии). Ведь в большинстве известных философских учений существование или не-существование приписывается объектам мысли, а не самой мысли. Исключением является, пожалуй, только буддийская школа виджпянавада-йогачара (в которой мысли как раз и приписывается не-существование). В «Восьмитысячнике» это именно немысль полагается таким состоянием, в котором нет ни «есть», ни «нет» в отношении чего бы то ни было. Я думаю, что введение не-мысли здесь не обычный для Запредельного Знания прием, а, скорее, предел редукции, более чем на две тысячи лет предваривший идею Эдмунда Гуссерля о чистом сознании как пределе феноменологической редукции.
(3) Третья, основная идея Махаяны, нашедшая свое переистолкование, в «Восьмитысячнике», — это «Таковость». Как и при рассмотрении Пустоты, первым вопросом будет: «Чья Таковость или Таковость чего?» Только ответив на эти вопросы, мы будем иметь право спросить: «Что такое Таковость?» Тогда ответом на первый вопрос будет: «Таковость Татхагаты и таковость Субхути (тоже потенциального Татхагаты)». Ответить на второй будет гораздо труднее потому, что ко времени создания Восьмитысячника (сколь бы гипотетичной ни была его датировка) Таковость уже давно приобрела квазионтологический статус. В переистолковании Таковости в философии Запредельного Знания не ставится под вопрос ее онтологический статус, но явно наблюдается тенденция к релятивизации этого статуса. Попробуем теперь рассмотреть несколько наиболее интересных подобных случаев в «Восьмитысячнике».
а) Чья бы ни была Таковость — это Таковость Будды-Татхагаты, и (как и его Таковость) он не появляется и не приходит.
Поэтому рожденные по образу Таковости Татхагаты (а таким был рожден и Субхути) не являются рожденными.
b) Таковость Татхагаты и Таковость всех дхарм — это одна и та же Таковость и вот в каком смысле: и Татхагата и все дхармы являются нерожденными (здесь можно видеть тенденцию к отождествлению дхарм вообще с живыми существами), несотворенными и беззнаковыми. Последнее означает принципиальную неотмеченность Таковости, которая не даст отличить Таковость от не-Таковости. Таким образом, Таковость и не-Таковость — не две различные дхармы, а одна, каковой являются Таковости Будды и Субхути. Значит, Таковость не-дуальна. Поэтому, в частности, когда нам кажется, что Будда и Субхути — два разных существа, то это — иллюзия, произведенная магической мощью Будды, в то время как на самом деле у обоих одна и та же Таковость.
c) В «Восьмитысячнике» вводится особое и весьма сложное понятие упорядоченности или гармонизации (Skr. vynha), исходящих из Таковости Господа. Все факты и события вселенной, будь то «рождение» Субхути или Полное Пробуждение Будды, происходят только в соответствии с уже имеющим место универсальным устройством, в котором манифестируется Таковость Татхагаты. Не будет, мне кажется, слишком рискованной гипотезой предположить, что в школе Запредельного Знания возник целый «пучок» особых онтологических понятий, явно производных от понятия Татхагаты, — таких как «Поле Будды», «Устроение» (кстати, ближе всего по смыслу к понятию космоса в досократической греческой философии) и «Гармонизация Поля», в которых можно видеть своего рода иную, «мистическую» космологию буддизма, уже в значительной степени отличную от дхьянической космологии, прямо идущей от непосредственного йогического опыта созерцателей. Наше краткое рассуждение о Татхагате и Таковости в «Восьмитысячнике» заключу предположением о том, что в этой «извечной» онтологической сущности мастера Запредельного Знания видели выход из философского (и мифологического!) дуализма.
(4) Само собой разумеется, что эпистемологически Пустота остается главной (а часто и единственной) позицией и исходной точкой зрения для Бодхисаттвы — что бы он ни познавал, рассматривал или обсуждал. Но вместе с тем она является, так сказать, и универсальной отсылкой. Ведь о чем бы Субхути ни рассуждал, он «отсылает» себя и собеседника к Пустоте. Фактически мы можем считать «Восьмитысячник» первым, пусть несистематическим и фрагментарным, изложением учения о Пустотности, позднее систематически разработанного в школе Мадхъямика, где оно и получило свое название «теория пустоты» (Skr. sunyavada).
Мы знаем, что онтологически все дхармы пусты, т.е. лишены каких-либо признаков, атрибутов или имеющихся в них объектов, а понятие дхармы оказывается лишенным какого-либо мыслимого позитивного содержания. Таков негативный аспект онтологии дхарм. Но — и это важнейший момент в учении о Пустоте — нет одной, какой-то обшей для всего Пустоты. Пустоты как универсального атрибута. Пустота всегда — конкретная пустота определенного «чего-то». Тогда сказать «все есть пустота» будет таким же философским вульгаризмом, как сказать «пустота — это все». Но сказать, что «все дхармы пусты», будет философски вполне корректно, ибо «все дхармы» — это, с точки зрения Пустоты, один определенный объект. Отсюда и следует множественность пустот, так сказать.
В аспекте позитивной онтологии Пустота является пределом всего, что есть, и всего, чего нет, и таким образом она — то же самое, что Таковость и Нирвана. Последним только подчеркивается то обстоятельство, что Пустота в философии Большой Колесницы была введена как буддологическая категория, а никак не категория натурфилософии или эмпирицистской философии. Рассматриваемая вне буддологического контекста, Пустота неизбежно окажется тривиализированной и фальсифицированной. А в то же время она является предметом Запредельного Знания, подобно тому как дхарма является предметом философии Абхидхармы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Введение в изучение буддийской философии"
Книги похожие на "Введение в изучение буддийской философии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Пятигорский - Введение в изучение буддийской философии"
Отзывы читателей о книге "Введение в изучение буддийской философии", комментарии и мнения людей о произведении.