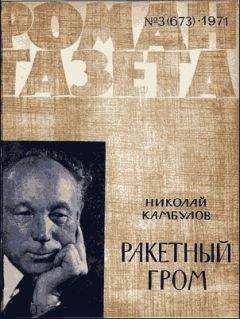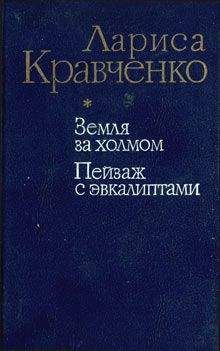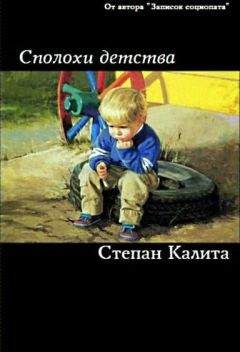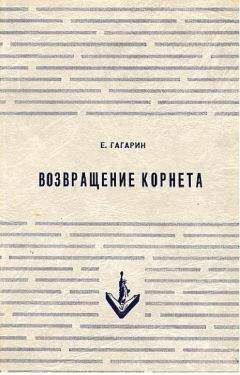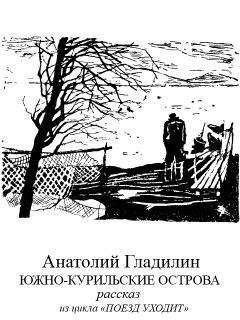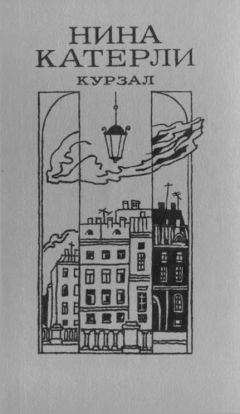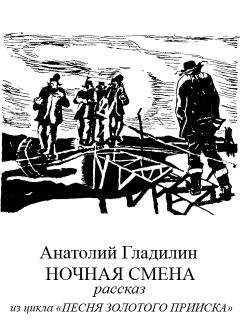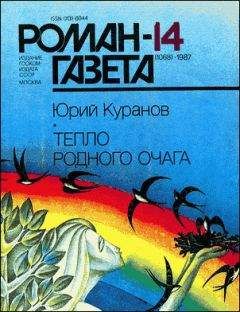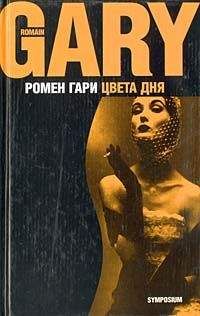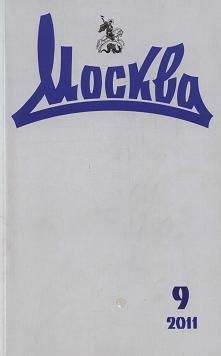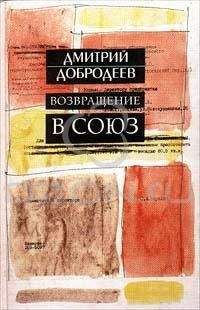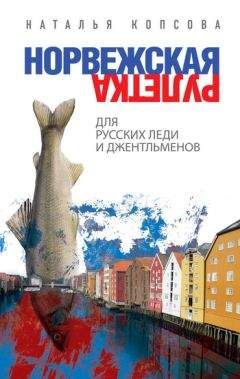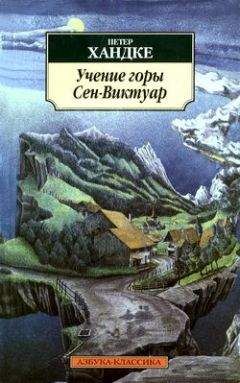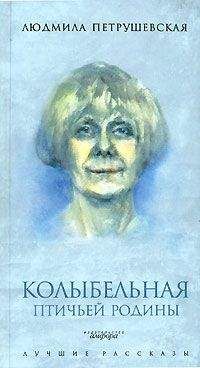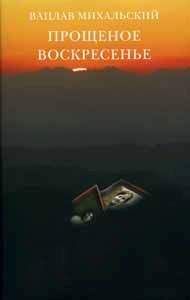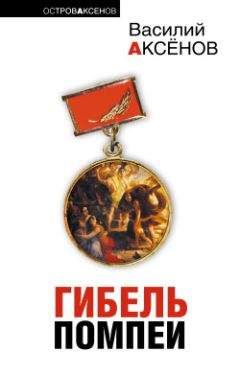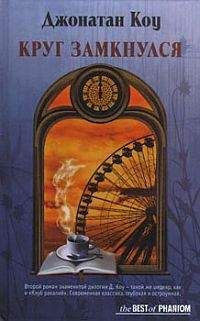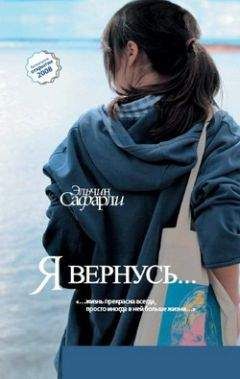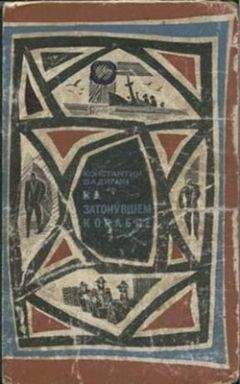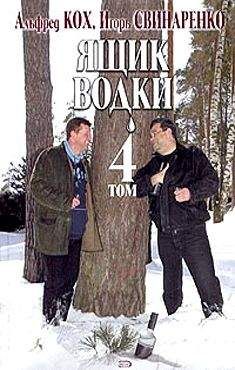Лариса Кравченко - Пейзаж с эвкалиптами
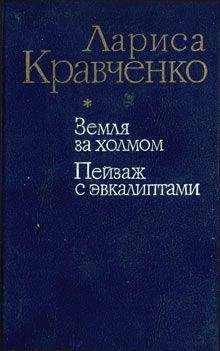
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пейзаж с эвкалиптами"
Описание и краткое содержание "Пейзаж с эвкалиптами" читать бесплатно онлайн.
Романы о русских людях, в начале века волей обстоятельств оказавшихся вне Родины; о судьбе целого поколения русских эмигрантов. В центре — образ нашей современницы Елены Савчук. В первой части дилогии перед читателем проходят ее детство и юность в Харбине, долгожданное возвращение в Советский Союз в 50-е годы. Вторая часть — поездка уже взрослой героини в Австралию к родным, к тем, кто 30 лет назад, став перед выбором, выбрал «заокеанский рай».
Счастье обретения Родины, чувство неразрывной слитности с ее судьбой, осознание своего дочернего долга перед ней — таков лейтмотив романов.
И пока не появился в этом доме человек из Сузуна, она вынуждена была сидеть с хозяином-священником в его более чем скромной гостиной (как и подобает сану) и вести беседу. Правда, одна стена гостиной, пустоватой, с иконами в углу, была вся уставлена радиоаппаратурой разных размеров, коробками с кнопками и переключателями, что должно было означать личное пристрастие его к современной стереомузыке, но, честно говоря, вызывало мысль о шпионских передатчиках.
А сам хозяин, гибкий и узкобедрый, затянутый в черную глухую «водолазку», с черным клинышком «мефистофельской» бородки и огненными очами, вовсе не отвечал привычному типу священника, а скорее напоминал мафиози из итальянского кинофильма!
И поскольку он сам внешне не проявлял к ней заинтересованности даже в пределах гостеприимства, чтобы не молчать, она вынуждена была задавать ему вопросы, в порядке интервью.
— Скажите, почему вы выбрали это поприще? (Конечно, довольно странно для такого молодого и интересного мужчины!)
Оказалось, «в наш жестокий век люди лишены радости, и душевное безверие подрывает в людях опору». И он понял: его задача — дать людям веру и душевную радость! Все правильно, может быть, у них там, в мире вещей и бизнеса, если ничего больше своего — своей земли, и даже дети не понимают твой родной язык, может быть, там церковь и есть единственный оплот духовности? И последнее для русской души прибежище? И можно понять их и только испытать к ним сожаление. Но тогда при чем тут суматоха и вражда принадлежности по епархиям? И полное отсутствие святости в этом представителе божьем на земле? С его электронно-стереоаппаратурой? Не так, что-то…
— Если вы хотите отдохнуть от мирской суеты, приезжайте к нам, к службе. Постоите, помолитесь! У себя там вы лишены этого…
Вот куда, кажется, идут концы его «пищи духовной», и чего лишены якобы люди в Советской России! И не еще ли одна это ниточка к центру НТС — только уже не через газетку «Единение», а через церковь?
Вступать в дискуссию было бессмысленно, тем более что не за тем пришла она в этот дом, и тем более, что уже мотор зарычал под окнами и кто-то входил и здоровался внизу с хозяйкой — английскими словами, но с явно русской интонацией…
К разговору о священнике можно добавить только: прощаясь в машине, когда он подвозил ее, как договорились, домой к Сашке и Анечке, в конце дня, он оставил ей номер журнала «Континент», издаваемый на русском языке на Западе («Почитайте, вам должно быть интересно»), и книжицу в мягкой обложке. Отказаться и не взять показалось ей неучтивым. И она взяла. Раскрыла дома, на сон грядущий, из любопытства. И таким страшным и затхлым бытом дохнуло на нее: «коммуналка» с пьяными нищенскими буднями, беззаконие к людям со стороны властей и бессердечность корыстолюбия, даже родных по крови, волчий мир и безвыходность. Такое не могло быть списано с натуры, потому что не существовало, просто не могло существовать в ее стране, где все построено на иных, противоположных принципах! И она готова подтвердить это под присягой, потому что сама видела воочию «мир коммуналок», сразу после целины, когда жила уже с родителями и с Сергеем в городе и ходила в райисполком «пробивать» собственную квартиру. И хотя трудное было еще время, послевоенное, и многого не хватало на всех — метров жилья, в частности, и в очередях пришлось постоять, как и всем окружающим, несмотря на все это, именно те первые годы с неустройством своим остались в ее памяти под знаком душевной сердечности людей совсем посторонних. И какой-то веселостью жизни и доброжелательности, в особенности к ним — приезжим, шли навстречу и обещали, и помогали.
А потом началось время, когда город на ее глазах стал бурно строиться, сбрасывая, как щепки, бревенчатые почерневшие домики Каменки и Чернышевского спуска, дощатые бараки на Западном за Сибсельмашем. Бульдозеры сгребали в кучи то, что оставалось, — землю, гнилушки и кирпичный печной лом, в кузова грузовиков сносили прежние пожитки — неуклюжие шифоньеры, панцирные койки и коврики с лебедями, и все это ехало во временную жизнь, на новую квартиру очередного какого-нибудь Затулинского жилмассива, чтобы вскоре уйти в небытие, потому что не приживались вещи прежних «коммуналок». Она снова видела это своими глазами, поскольку теперь уже от своей «фирмы» была в месткомовской жилищной комиссии и занималась актами обследования и распределения… Гулкость полупустых еще комнат, где полы затоптаны снегом и с распахнутых в тающий март окон отмываются брызги строительных растворов! Новоселья с плясками на общих лестничных площадках и на асфальтовых пятачках перед подъездами, когда кругом еще «море разливанное» котлованов и неблагоустройства! И радость. Все это было, было, а потом забылось как-то с годами, когда все утряслось, и зажили кому как нравится, с коврами, стенками или хрусталем. А сейчас вдруг вспомнилось ей с гневом против написанного…
Потому что словарный запас и приметы быта выглядели подлинными — непромытый и темноватый общий коридор с развешанными по стенам жестяными ваннами, и кухонный смрад керогазов — значит, писал это не просто некто, давно сидящий в эмиграции, а тот, кто явно в войну жил среди нас, ел наш хлеб и стоял в наших очередях и отлично знал, что могла, а чего не могла дать людям в те годы страна, и почему не могла… И если даже было такое — никогда не составляло главного в нашей жизни, только временное, как стихийное бедствие. Знал и продал, как «сор из избы», врагу, за «тридцать сребреников»!
И она подумала: если «тема Иуды» является одной из центральных в той христианской религии, что проповедует сей пастырь (даже осина, на которой, якобы, повесился предавший Иуда, вечно трепещет от проклятия!), как же тогда именно такое предательство — эта книжонка — берется церковью на вооружение? Или церковь тут ни при чем, а все дело в самом отце Александре?
Интересно, каков нынче перевод по курсу на доллары «тридцати сребреников»?
Журнал и книжонка обжигали ей руки. И она оставила их, уезжая совсем из Сиднея, в Сашкиной передней, на полочке у телефона…
…А пока — старый седой человек сидел с ней рядом на низком диване в доме священника и плакал.
— Сибирячка! — он говорил ей — Сибирячка — и пытался обнять и плакал снова. И хотя она вовсе не была подлинной сибирячкой, а «новоиспеченной», не опровергала этого, потому что для него она была приехавшей «оттуда», и совсем неважно, как она оказалась там и когда. Главное, что совсем только что она была там да еще знала его Сузун! И сейчас, сидя рядом на диване, он видел не ее, какая она сама, и даже не различал, молодая пли старая, и не узнал бы, встретивши снова. Он видел свой бор, золотисто-солнечный, сухой и звенящий, как скрипка, по осени, с резким скипидарным духом хвои, в шорохе редкого пожелтевшего подлеска, или в начале лета — влажный, сочный, зеленый, с оранжевым разливом огоньков в распадках, беловато-мохнатыми свечками, расцветающими на концах колких веток. И с зайцем, сидящим, как столбик, у края лесной дороги на песчаном бугорке. Или более всего запечатлен он в его сознании зимним — строгим, почти двухцветным, как на гравюре, когда на белизне снегов даже вечная зелень сосен кажется черным узором и ломятся ветки под тяжкими лапами снега — потому что такого нет и не может быть в Австралии (только в горах где-то, где не живут, а только приезжают на лыжный спорт те, кто имеет возможность, и где, по всей вероятности, ему нечего делать!). Или все проще — и ему видятся пестро-пегие коровы на кочковатом лугу в Сузунской пойме, в последний час дня, когда вот-вот они оторвутся от своей деловитой жвачки и отправятся по домам, медленным стадом втекая в улицы поселка. А закат лежит над сумеречным бором лиловыми полосами, и пласты то ли дыма, то ли тумана сединой затягивают пойму, и пахнет древесным дымом от растопленных печей. И русским хлебом…
— Боже мой! — сказал он почти сквозь зубы и пригнул к рукам свою большую лобастую голову (может быть, чтобы никто не видел лица его), и хрустели пальцы, сжавшие крохотный, с наперсток, туесок…
Что же с ним было такого, и что же такое он сделал, если не может быть там, а должен сидеть здесь, в душной ночи чужого города, где даже окна распахнуть не принято, в чужой квартире явно враждебного всей его русской сути человека? А где-то в соседнем Хомбуше или Стратфельде ждет его по-женски недовольная этим свиданием жена, которой ничего это неизвестно и не нужно и даже рассказывать невозможно, потому что у той позади свой оставленный какой-нибудь Триест с одной Адриатике присущими красками и запахами, до которой ему тоже нет дела…
Как же могло получиться такое? И, значит, он знает за собой нечто, что не позволило ему вернуться, потому что люди, которые не знали за собой ничего, возвращались и проходили все круги недоверия и утверждали свое право жить на своей земле… Бестактным казалось ей расспрашивать: как, что и почему? Только по отдельным его словам и фразам, что вырывались у него, в только ему понятной связи с происходящим, могла она сопоставить или угадать… Конечно, был плен. И бараки. Где-то в Баварии, и где он выжил, когда рядом не выживали его однополчане… И в составе части или команды (она не поняла) он дошел до Италии. И чем был отмечен его путь здесь — вольно или невольно выполняя приказы (видимо, выполнял, иначе не дошел бы…), он не сказал ей, она не могла спрашивать. И здесь, уже в конце войны, он попал к американцам. Снова были бараки для пленных, только повольнее и посытнее, по-видимому. И он опять оказался нужен, потому что умел делать все, что испокон веков умеет русский мужик — и сапоги тачать, и поварить. И еще, видимо, умел то, чему научила его немецкая школа выживаемости… И уже отсюда, из Италии, и не сразу, удалось ему уехать в Австралию… А почему не домой? Им говорили — их расстреляют на границе. Он хотел жить. Тогда — просто жить, после всех неживых, через которых ему довелось пройти… Оказалось, просто жить еще недостаточно. Люди, которые созванивались, чтобы устроить с ним встречу, говорили, что он пьет — горько и безнадежно, и ему нужно было пару дней — прийти в себя, чтобы встретиться с ней. Хотя дом — полная чаша. Деньги есть — руки всегда знали дело и не подводили его. И женщина любит, если живет с ним, терпит приступы пьяной его тоски. И что еще нужно человеку в бананово-апельсиновой Австралии?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пейзаж с эвкалиптами"
Книги похожие на "Пейзаж с эвкалиптами" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лариса Кравченко - Пейзаж с эвкалиптами"
Отзывы читателей о книге "Пейзаж с эвкалиптами", комментарии и мнения людей о произведении.