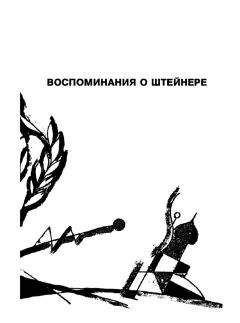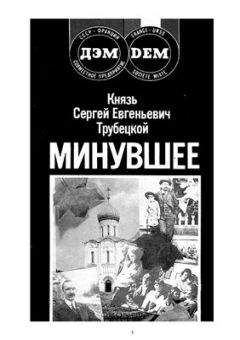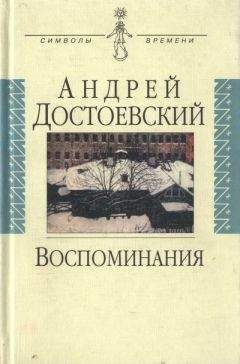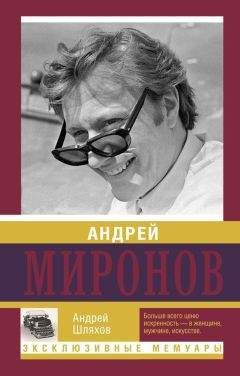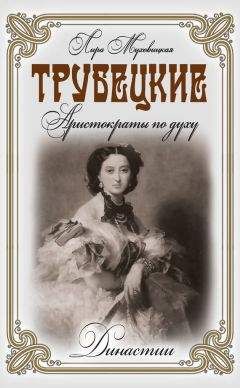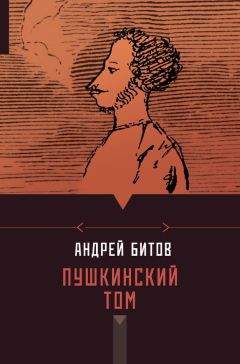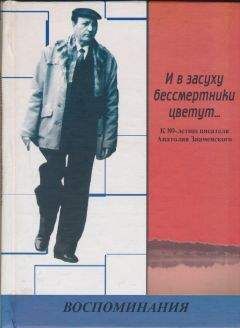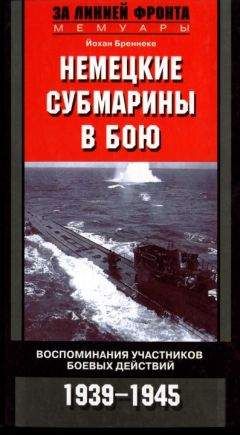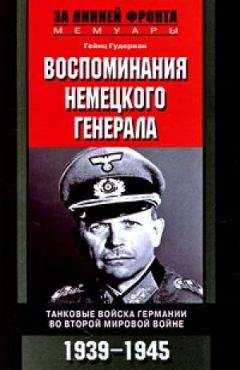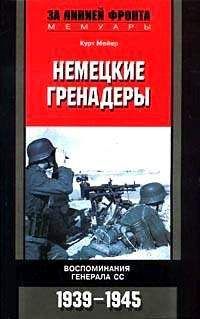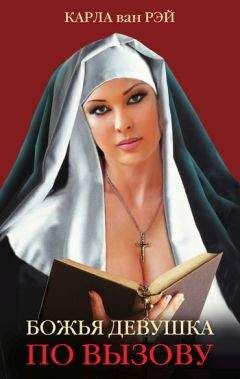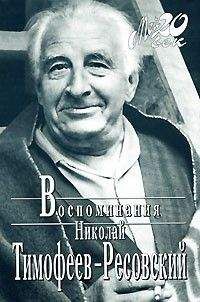Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)
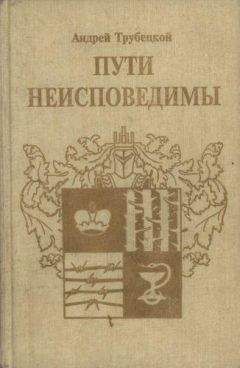
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Описание и краткое содержание "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)" читать бесплатно онлайн.
Воспоминания о лагерном и военном опыте Андрея Владимировича Трубецкого, сына писателя Владимира Сергеевича Трубецкого.
Ирина осталась у меня до Нового года, который мы встречали у ее милых хозяев. Это были симпатичные и гостеприимные старичок и старушка. Судя по ее манере держаться, в молодости она была «львицей», а супруг ее славился игрой на гитаре и балалайке. На новогодний вечер я позвал приятелей из полка, а хозяева — девиц. Я притащил ракетницу и ракеты, и в двенадцать часов, уже навеселе, мы вышли во двор устраивать фейерверк. Палили по очереди все. Но вот одна ракета почему-то не входила в ствол. Я, вопреки здравому смыслу, стал заколачивать ее, взяв ракетницу за ствол и ударяя рукояткой по собачьей конуре. Ракетница выстрелила, ракета ударилась о землю и рикошетировала в ногу стоявшей позади девицы, а от нее в небо. Девица вскрикнула и упала, а ракета рассыпалась в небе огнями. У девицы был разодран чулок. Ссадину на ноге и испуг я заглаживал усиленным ухаживанием. Так мы встретили Новый 1946 год. Вскоре Ирина уехала, а моя интендантская служба продолжалась.
. Иногда на моем горизонте появлялся младший лейтенант Пилипенко. Он обычно звал выпить, а в одну из последних встреч он, не вылезая из кабины студебеккера, протянул мне со словами «глотни» плоский деревянный бочоночек с самогонкой. Раза два у меня были неприятности с командиром полка из-за того, что я «плохо обеспечивал своего единственного командира». Для распеканий он вызывал меня к себе и обставлял их особенно. Я стоял навытяжку все время, пока он, развалясь в кресле, не спеша беседовал по телефону со своим начальником штаба, жившим в соседней квартире, о подробностях последней охоты. Я подозревал, что разговор затевался специально перед моим приходом. Если я чуть ослаблял ногу, подполковник кидал на меня строгий взгляд и хмурил брови. Распекание начиналось словами:
«Сколько у вас командиров полка?» Справедливости ради, надо сказать, что он не требовал лишнего, но требовал лучших кусков, например, от туш коров, которых мы сами забивали. У полкового командира было, кажется, ранение в челюсть, и он не мог есть жесткого. А дело обстояло обычно так. Один из поваров в полку был узбек. Он же исполнял должность мясника, резал коров и имел обыкновение брать себе язык. Когда приходили от командира полка за головой и уносили ее, то уже на полковничьей кухне выяснялось, что нет языка. Тут-то и тянули меня. Кстати, этот узбек был великим мастером разделывать баранов. Бедной скотинке он быстрым движением перерезал горло (остальные стояли кучкой в стороне и обречено смотрели на совершающееся), затем, надрезав кожу у ноги, он начинал дуть в разрез ртом. Воздух, отслаивая кожу, распирал тушу, ноги расходились. Узбек короткими и точными движениями разрезал кожу на брюхе до шеи, вдоль ног и вынимал голую тушу из шкуры. Все это делалось в одно мгновение. Надо сказать, что все лето и до зимы 1946 года скот гнали из Германии. Гнали лошадей, племенных коров, быков. Сколько голов погибло тогда! На обочинах дорог так и оставались лежать эти •туши.
В полку был воспитанник, «сын полка», мальчишка лет двенадцати. Его можно охарактеризовать двумя словами: избалованный хулиган. Имел он ранение и медаль. Мой предшественник позволял ему делать на складе, что угодно. Я же стал гнать его с порога, увидев слишком вольное обращение с печеньем, сахаром, компотом. Однажды, когда я погнал его в очередной раз, он проворчал: «А, заелся, абраша», — что вызвало оживление присутствующих.
Весной большую неприятность доставляли мне крысы, тайно утаскивающие со стола важные документы для своих гнезд. Однажды исчезла ведомость, по которой выдавался сухой паек офицерам. Несколько дней я ломал голову, что это могло бы значить, куда исчезла ведомость. Разгребая угол, где стояли ящики с посудой, я обнаружил клочки ведомости, пропавшие расписки и многое другое. Все это составляло стенки гнезда, а в них розовые, голые крысята. Склад, помимо часового, охраняла огромная добродушная трофейная собака Мальчик. Она обычно спокойно лежала у будки, стоявшей рядом с дверьми, не обращая внимания на проходивших мимо людей. Но стоило мне появиться в поле ее зрения, даже довольно далеко от склада, как пес начинал проявлять невероятное служебное рвение. Он со страшным лаем всеми силами старался сорваться с цепи, кидался не только на людей, но и на воробьев, клевавших рассыпанное тут зерно. И еще одно наблюдение, показывающее такт этого верного стража. Иногда мы спускали Мальчика с цепи. Он носился по пустырю за складом, как сумасшедший. Набегавшись, сам приходил к конуре и ложился, ожидая, когда его возьмут на цепь. И вот в этом положении, не привязанный, но уже у будки, то есть на посту, Мальчик никогда служебного рвения не проявлял, хотя я нарочно показывался ему на глаза. Ведь тут, уж если бросишься, то надо хватать и кусать — цепи нет. А до этого доводить дело ему явно не хотелось, и он лежал спокойно. Но как только чувствовал себя на цепи, то рвался на посторонних со страшной силой, как бы забывая о ней.
В марте-были выборы в Верховный Совет. Нашим депутатом оказался местный белорус по фамилии Козел. Выступавшие на митингах, превознося его заслуги, деликатно старались не склонять эту распространенную белорусскую фамилию, но иногда срывалось: «Отдадим свои голоса за товарища Козла.., товарищу Козлу». Тогда же вышел указ о демобилизации второй очереди, в которую входил и мой год. Я подыскал себе замену, начальник ПФС полка старший лейтенант Доморослов, многоопытный и хитрый интендант, ее одобрил, и в начале мая, задержавшись для передачи склада, из-за чего не попал в эшелон москвичей, я наконец распрощался со службой в армии.
Нагруженный тяжелым рюкзаком и чемоданом, я погрузился в эшелон на станции Слуцк. В эшелоне были собраны сибиряки и двигался он, как это выяснилось в пути, не через Москву, а севернее ее. Поэтому в Орше мы, несколько москвичей, попросили свои документы у старшего по эшелону и, получив их, обрели полную свободу.
Придя на станцию Орша-пассажирская, выяснили, что курьерский поезд Брест-Москва прибудет часа через два, но билеты не компостируют, даже литерные (воинские). Решили брать поезд штурмом, что и сделали, несмотря на сопротивление проводников. Забрались на крышу вагона. Наш оказался с антенной, и проводник, когда уже отъехали от Орши, просил перейти на другую крышу. Ночь проспали на крыше и только перед самой Москвой, когда увидели провода пригородной электрички, спустились в тамбур.
Ликование, начавшееся в последние дни, нарастало по мере приближения к Москве. Но вот мимо пронеслись характерные постройки вокзала Кунцева, обшарпанные бараки окраин, первые трамваи и, наконец, Белорусский вокзал. В толпе на перроне я случайно оказался позади двух полковников. Впереди патрули проверяли документы у солдат и младших командиров. Меня пропустили без проверки, приняв, очевидно, за ординарца полковников.
ЧАСТЬ V
Глава 1. МОСКВА. УНИВЕРСИТЕТ
Мечтая о возвращении, я всегда мысленно представлял как буду ехать на Трубниковский к Бобринским. Я знал, что от Белорусского вокзала туда можно попасть на трамвае № 26, и еще раньше решил, что поеду именно на нем. В ожидании двадцать шестого номера я пропустил несколько других трамваев, хотя на них отчетливо было написано, что они идут по улице Герцена, куда мне и надо было. Вот, наконец, и он, и я с замиранием сердца влез в вагон. Трамвай, доехав до зоопарка, повернул на Пресню. Пришлось вылезать, и остальную часть пути я проделал пешком. Войдя во двор дома № 26 по Трубниковскому переулку, я обогнул трехэтажное здание и у входа столкнулся с братом Владимиром. Обнялись, расцеловались и вместе вошли к Бобринским.
Здесь стоит рассказать об этих удивительных людях. Семьи наши дружили давно. Родственниками мы были далекими, хотя и я, и мои братья называли главу семьи Бобринских «дядя Коля», а его жену — «тетя Машенька». Он, профессор зоологии МГУ, она — домашняя хозяйка. У них было пять человек детей, но над семьей тяготел какой-то рок. Все дети, кроме одного, умерли один за другим. Один из них, мой сверстник и большой приятель Алеша, умер в 1933 году. На Арбате он вышел из трамвая и стал перед вагоном переходить через рельсы. Двинувшиеся с ним люди толкнули его, он упал, а вагон тронулся, и ему отрезало обе ноги. Алеша скончался на другой день от потери крови.
Дядя Коля и тетя Машенька всегда относились ко мне по-отечески. В 1939 году, когда наша семья вернулась из Средней Азии и обосновалась в Талдоме, а я поступил в университет, то, как само собой разумеющееся, я поселился у Бобринских, где был и прописан. К моменту моего теперешнего появления у них уже жили вернувшиеся из армии два Моих брата — Владимир и Сергей, оба инвалида войны. Своего очага у нас не было.
Семья Бобринских всегда отличалась гостеприимством и хлебосольством. В особо тяжелые годы, а одним из таких был 1933, они помогали, кому могли.
Кто бы к ним не пришел, всегда усаживали обедать, а уж без чая никого не отпускали. Покормить любили, особенно тетя Машенька. Она же любила и поговорить. Внучка славянофила Хомякова, она, несомненно, была незаурядным человеком, и разговоры с ней были интересны. Любила она и поспорить. Была и мастаком на всякие выдумки, какие-то хитрые и невероятные комбинации, которые, правда, иногда и «выгорали». Посторонним людям, которых о чем-нибудь просила, обязательно давала «на чай». Была она очень активным человеком и таким оставалась до последних дней своих. Дядя Коля был всегда занят работой, много писал, издавал учебники, руководства, определители. Их сын Коля, ровесник Сергея, единственный оставшийся сын, испытал на себе, по-видимому, слишком много материнской любви. Надо сказать, что характер у тети Машеньки, несмотря на ее удивительную добросердечность, был властный и довольно тяжелый. При всей ее доброте и благорасположении, желании помочь людям, попавшим в тяжелое положение, жить мне у Бобринских в 1939 году было нелегко. Она могла совершенно не считаться с твоим «я», тяжело обидеть, даже оскорбить словом. Правда, тут же просила прощения и всячески заглаживала сказанное, но осадок оставался. Когда меня взяли на действительную службу в армию, я, откровенно говоря, даже свободнее вздохнул, ибо по неопытности и молодости не мог давать отпор. И тем не менее, я всегда был очень привязан к тете Машеньке и дом их считал родным.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Книги похожие на "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Отзывы читателей о книге "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)", комментарии и мнения людей о произведении.