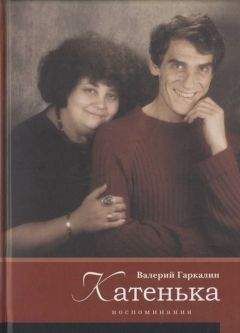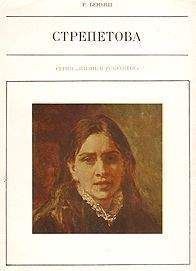Наталья Крымова - Владимир Яхонтов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Владимир Яхонтов"
Описание и краткое содержание "Владимир Яхонтов" читать бесплатно онлайн.
Известный театральный критик и исследователь Н. Крымова в своей книге рассказывает о жизненном и творческом пути В. Яхонтова — выдающегося мастера слова, художника-реформатора, особенно выделяя такую тему, как природа жанра театра одного актера. Характеризуя работу Яхонтова над русской классикой, автор прослеживает, как в его творчестве синтезировались идеи школ Станиславского, Вахтангова и Мейерхольда.
Всех потряс «поток информации», обрушенный на зрителей одним актером. То, что в сознании современников существовало раздельно и как бы в разных сферах, в спектакле воссоединилось и отозвалось самым неожиданным образом.
Атмосфера уходящего в прошлое Петербурга-Петрограда; тема «маленького человека», известная по дореволюционным учебникам, но по-новому осмысленная; сплетение трагедии и комедии — в литературе и в жизни; зримая резкая графика быта и его тревожная музыка; атмосфера времени, где все вздыбилось и еще не улеглось; человеческие заботы и мечты о тепле, о доме — под грохот силы, сносящей дома, распахивающей двери…
Сложнейшая цепь ассоциаций, мыслей, образов, шумов, ритмов отразилась в этом «Петербурге», эмоционально соединив ушедшее с настоящим, классику с современностью. И все это — благодаря своеобразной драматургии, ранее на театре не виданной.
По справедливому замечанию И. Андроникова, то, что делал Яхонтов, «представляло собой сплав художественного чтения с театральным действием». Особый синтетический жанр, вклинившийся между театром и литературой. Сплав — значит, новое качество. «Он любил контрасты во всем… Уже чередование стиха и прозы — внезапные эмоциональные и ритмические сдвиги — создавало ощущение контраста. Но когда Яхонтов начинал сопоставлять „кадры“… в действие вступали уже контрасты смысловые». В ритмических сдвигах — это видно в той же «Шинели» — заключался свой смысловой контраст. «Переходы из одного эстетического и смыслового ряда в другой, несоответствия их и — одновременно — постепенное накопление сходственных черт ощущалось как „образный конфликт“. Он разрешался в тот самый момент, когда зритель, наконец, связывал между собой эти далекие сравнения».
«Петербург» явился наиболее выразительным и цельным примером такого рода драматургии: цепь монтажных «стыков», варьирующих, вернее, с разных сторон исследующих тему.
Андроников справедливо замечает, что предпосылками яхонтовских композиций были, в частности, спектакли Мейерхольда и что вообще «столкновение разнокачественных и стилистически неоднородных кусков в искусстве 20-х годов было явлением распространенным. Родственный композициям Яхонтова принцип монтажа еще раньше осуществлял в кино режиссер Дзига Вертов. А Сергей Эйзенштейн даже искал теоретические обоснования этого вида искусства».
В сфере монтажа искали Эйзенштейн, Дзига Вертов, Эсфирь Шуб, Мейерхольд, Маяковский, Родченко, Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский — многие практики и теоретики кино, литературы и театра. Их поиски и открытия, впоследствии несколько подзабытые, теперь вызвали к себе новую волну интереса. Этот интерес к проблеме и ее истокам естествен. Истоки «монтажного» искусства там, где реальность предстает перед художником в ее резких противоречиях и контрастах, где творец ощущает себя как бы в эпицентре жизненных катаклизмов. Тогда его влечет к определенным формам искусства и выразительным средствам, способным передать эту контрастность.
Создатели спектакля «Петербург», обратившись к русской классике, там тоже искали и обнаруживали взрывную силу, тайную или открытую. А на сцене отбирали средства, которыми эту силу можно выразить и действие ее увеличить.
Когда-то Пушкин, размышляя о русской народной трагедии, призывал изучать «законы драмы шекспировой». Мысль создателей спектакля «Петербург» естественно устремлялась в то же русло.
В 40-х годах, обдумывая, как рассказать о «Петербурге», Яхонтов так и начал: «Шекспир бессмертен… „Петербург“ — есть моя дань шекспировскому пониманию некоторых драматических ситуаций. (Последний раз поправим — их дань, то есть создателей спектакля.) Сопоставление великого и малого, трагедии и комедии заключено было в каждом из трех выбранных классических произведений. При более пристальном рассмотрении выяснилось, что и „великое“ сходно в них и „малое“ тоже. Потом эта диалектика проявилась еще сложнее: великое обнаружило себя внутри малого, и эта монументальная мизерность, будучи сценически воспроизведенной, оказалась вполне в духе фантастики, которая объединяет Пушкина с Гоголем, Гоголя с Достоевским.
Потому, например, портной Петрович вырос в фигуру величественную и грозную, под стать иным петербургским монументам. Дальше — больше: выяснилось, что если великое откровенно сопоставить с малым, его можно, как бы играючи, снять с пьедестала. Например, Акакий Акакиевич решился сшить новую шинель. Это стоило многих раздумий и жертв. Не подвиг ли для него такое решение? И ведь каким смелым, даже дерзким он себя почувствовал, как осветилась и преисполнилась содержанием его жизнь! Так почему же, рассказав об этом, не прочитать тут же с пафосом:
Отсель грозить мы будем шведу;
Здесь будет город заложен,
Назло надменному соседу —
и продолжить уже с неистовым вдохновением:
Не положить ли точно куницу на воротник?!
Петр Первый и Акакий Акакиевич были поставлены рядом не ради „формальной игры парадоксами“.
Парадокс — эксцентрическое по форме разрушение стереотипа — несомненно явился одним из сильнейших средств яхонтовского искусства. Можно сказать, он обнаружил себя как одна из форм художественного мышления XX века.
Императора Петра и тихого Башмачкина соединила мысль исполнителя о том, что от великого до малого поистине один шаг. От царского дворца до Коломны — несколько улиц, а жизнь правителя с его величественными проектами неминуемо переплетается с тысячами скромнейших по своей видимости человеческих жизней, от государственных планов бесконечно далеких, но и трагически зависимых.
Акакий Акакиевич, Петр Первый, Евгений, Настенька, Петрович, петербургские дворцы, чиновничьи пирушки, темнота пустырей, паутина нищенских каморок — все это было объединено в одну, подобную фантастической фреске картину: Петербург, столица Российской империи.
* * *Несколько слов о внешнем облике спектакля. Попова говорит, что по графичности „Петербург“ перекликался с вахтанговским „Чудом святого Антония“: „Подсознательно, может быть, но Владимирский шел от этого спектакля — от его черно-белого, от его скульптурности“.
Скульптурность, четкая объемность — это был стиль игры, стиль оформления и реквизита. О вещах в спектакле следует сказать отдельно, потому что характер общения с вещью, открытый в „Пушкине“ в общем стихийно, тут, в „Петербурге“, был вполне сознательно и мастерски закреплен.
При всей своей тяге к театру Яхонтов не любил театральной бутафории. Он скисал от грубой подделки под натуральность, она его смешила и раздражала. И потому для „Петербурга“ нашли настоящий цилиндр (к этому предмету рука привыкла со времен „Бубуса“), клетчатый плед и зонтики: большой — черный и маленький — белый. В 20-х годах зонт вообще стал приметой ушедшего века — как знак эпохи зонтики и вошли в „Петербург“.
В настоящей, не бутафорской вещи был прямой отклик на природу исполнителя и своего рода эстетический принцип. Актер явно обнаруживал тяготение к определенной системе выразительных средств. Вещь, утварь играла в этой системе не последнюю роль.
Возможность образного перевоплощения предмета Яхонтов почувствовал еще в вахтанговской школе. Мейерхольд закрепил и усовершенствовал это особое чувство, знакомое не столько драматическим актерам, сколько, может быть, мастерам цирковой эксцентрики.
В замысел спектакля входило: взяв в руки реальный предмет, извлечь из него образ, и не один, а целый ряд. Зонт мог стать колесом кареты или щитом. Плед — старой шинелью, полостью саней, сукном, из которого Петрович кроит новую шинель, и т. д. В этой „игре с вещью“ использовался в общем простой ассоциативный принцип. В быту мы, не задумываясь, иногда строим на нем рассказ: „Он взял мою руку — вот так, как я беру эту ложку…“ „Я бросил пальто — вот так, как я бросаю сейчас платок“, и т. д. Вещь — метафора, образ, сравнение. И когда предмет найден верно, а извлекаемый из него образ продуман и помещен точно туда, где ему полагается находиться в общем поэтическом строе спектакля — все в порядке.
* * *„Особое положение“ актера, несущего на своих плечах несколько ролей, в „Петербурге“ окончательно определилось. Сплетение многих судеб, одна судьба в пересечении с другими.
В 1945 году, в январе, специалист в области психологии актерского творчества П. Якобсон беседовал с Яхонтовым о его „лаборатории“. Вопросы ставились самые разные, в ответах же Яхонтов особенно охотно прибегал к „Петербургу“, хотя уже лет десять как не играл этого спектакля.
Есть ли у него, при всем тематическом разнообразии, какая-то одна, излюбленная тема?
— Есть… Мне интересно показать героя и общество, его окружающее… Но я нахожусь в несколько особом положении. Актер обычно играет одну роль, с него эту роль и спрашивают, а я несу на своих плечах несколько образов.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Владимир Яхонтов"
Книги похожие на "Владимир Яхонтов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Крымова - Владимир Яхонтов"
Отзывы читателей о книге "Владимир Яхонтов", комментарии и мнения людей о произведении.