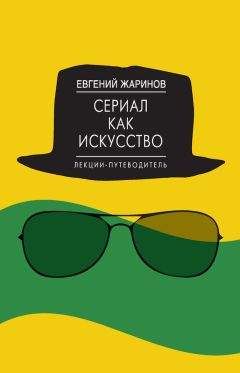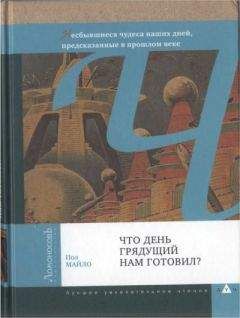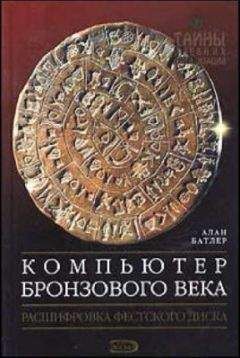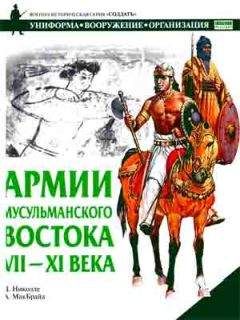Александр Лавров - От Кибирова до Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "От Кибирова до Пушкина"
Описание и краткое содержание "От Кибирова до Пушкина" читать бесплатно онлайн.
В сборник вошли работы, написанные друзьями и коллегами к 60-летию видного исследователя поэзии отечественного модернизма Николая Алексеевича Богомолова, профессора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В совокупности большинство из них представляют коллективный набросок к истории русской литературы Серебряного века. В некоторых анализируются литературные произведения и культурные ситуации более раннего (первая половина — середина XIX века) и более позднего (середина — вторая половина XX века) времени.
Формулируя свои оговорки в сентябре 1957 года, Эстерлинг, видимо, не предполагал, какой непреодолимой преградой может оказаться вторая его рекомендация. Неожиданное появление в ноябре первых фрагментов пастернаковского романа на французском и итальянском языке, сопровождавшееся подробным рассказом об обстоятельствах отправки рукописи на Запад и о давлении, оказанном советскими инстанциями на автора и западных издателей в попытке предотвратить выход книги, сведения о визите А. Суркова в Италию и недвусмысленная угроза в адрес Пастернака (параллель с судьбой Пильняка), прозвучавшая в его публичных высказываниях, выход самой книги 23 ноября и сенсационный ее успех (два издания были раскуплены в первый же день) — все это решительно изменяло ход мыслей и общую расстановку сил в Комитете. Кандидатура Пастернака, камерного, не признаваемого на родине поэта, только что попавшая в финальный раунд обсуждения, выступала теперь в совсем новом свете. Это заставляло Комитет, не полагаясь на «внутреннее» выдвижение, заручиться номинациями извне. Судя по опубликованным документам другого нобелевского дела — Сен-Жон Перса, — среди западных рекомендаций особый вес в тот период получали письма из Америки[1378]. Наряду с «циркулярными» письмами, рассылаемыми Шведской академией в наиболее престижные университеты (Гарвард, Оксфорд и др.) и другие академические учреждения, практиковались и прямые обращения к отдельным лицам с приглашением номинировать кандидатов для рассмотрения на премию. Неизвестно, было ли направлено такое приглашение Э. Симмонсу непосредственно, пришла ли к нему такая просьба через коллег (скажем, через Баура) или он выступил по собственной инициативе. Симмонс был одной из главных фигур, если не самой влиятельной в тот момент, американской славистики. Он сыграл заметную роль в бурном становлении славистических центров после Второй мировой войны в США Он был одним из основателей и директором Русского института при Колумбийском университете в Нью-Йорке — первого подобного заведения в Америке, стоявшего у колыбели «советологии», сформировавшейся в условиях «холодной войны». Начав с книги о рецепции английской культуры в России[1379], он написал затем биографию Пушкина, приуроченную к столетнему юбилею смерти поэта[1380]; за ней последовали монографии о романах Достоевского (1940) и о Льве Толстом (1946). Во время войны, в обстановке царивших в Америке советофильских настроений, вышел его обзор новейшей русской литературы, отмеченный подчеркнуто теплым отношением к советской культуре. В нем содержалась и краткая справка о Пастернаке:
Борис Пастернак (1890-), начавший свой путь под влиянием футуристов, всеми считается сегодня лучшим советских поэтом. Будучи преимущественно лириком, он менее успешен в поэмах Спекторский (1926) и 1905 год (1927), хотя блестящие лирические куски появляются и там. Пастернаку трудно соединить свою музу с политической и социалистической тематикой, хотя он иногда и делал такие попытки, поскольку он по природе своей — индивидуалист (высокой культуры) и романтик, пишущий с напряженной страстностью о природе, часто являющейся фоном его личных лирических высказываний. Его поразительное своеобразие самое полное выражение находит в его языке и поэтической форме. Это трудный, эллиптический, темный язык, с необычными синтаксическими ходами, но музыкальные и ритмические эффекты, опирающиеся на новации и конструкции обычной речи, удивительно удачны.[1381]
С небольшими вариациями эта характеристика повторена была и в главе о советской литературе, заказанной Симмонсу для обзора славистических дисциплин[1382]. Тогда же, в газетном отзыве на антологию Баура «А Second Book of Russian Verse» Симмонс выразил сожаление, что американские издательства, бросившиеся воскрешать и переводить Кафку, ничего не делают для того, чтобы ознакомить читателя с ныне здравствующим «Т. С. Элиотом Советского Союза, одним из действительно самых крупных поэтов нашего времени». Отметив, что в сборнике помещено семнадцать пастернаковских стихотворений, и высоко оценив мастерство переводчика, Симмонс сказал: «Своей камерной деятельностью маленькая группа литературных критиков и переводчиков в Англии создает настоящий культ Пастернака»[1383]. Это замечание побудило нью-йоркское издательство «New Directions», которое в 1935 году основал (по совету Эзры Паунда) для противодействия коммерциализации американской культуры молодой поэт-авангардист Джеймс Логлин, ускорить выпуск первой американской книги Пастернака — сборника[1384], куда вошли перепечатки прозаических вещей из лондонского издания С. Шиманского 1945 года и стихотворений в переводах Бауры и Бабетты Дойч[1385].
Будучи по образованию и кругу интересов литературоведом, Симмонс в разгар «холодной войны» обратился к «советологической» проблематике. Он подготовил, в частности, сборник статей своих учеников по Русскому институту об отражении русского общества в советской литературе, препроводив его обзором смены методов идеологического контроля в СССР[1386]. В марте 1954 года он организовал и возглавил большую общеамериканскую конференцию, посвященную истории и современному состоянию общественной жизни в России[1387].
Авторитет, которым обладал Симмонс в кругах американских литературоведов и советологов, имел несомненный вес в глазах членов Нобелевского комитета. Следует отметить, однако, что согласие или готовность Симмонса направить такую номинацию не означали для него (или его адресатов) выбора одного и отвержения какого-нибудь другого имени или, тем более, произведения. Он выступал в роли беспристрастного академического эксперта, а не участника жюри в конкурсе, отдающего свой голос за один или другой вариант. Вполне вероятно, что достойным Нобелевской премии он считал не одного Пастернака, но и Шолохова, о котором всегда отзывался с большим уважением и которому посвящена одна из трех глав его монографии, завершенной в октябре 1957-го и вышедшей к началу 1958 года[1388]. Федину и Леонову (в прошлом — «попутчикам») в ней противопоставлен Шолохов: абсолютно «советский» писатель, не обремененный старым культурным багажом, с самого начала своего пути — полноценный строитель нового режима. При этом, замечает Симмонс, являясь самым известным автором в СССР и будучи осыпан всеми мыслимыми почестями, Шолохов — единственный из всех крупных советских писателей — стоит в стороне от партийной борьбы и литературной политики и остается единственным советским литератором, художественная честность которого сочетается с мировой славой[1389]. Шолоховская глава, как, впрочем, и вся книга Симмонса, ныне выглядит поразительно непоследовательной и подчас просто наивной. Но очевидные в ней симпатии к советской литературе свидетельствовали, в глазах читателей, о политическом беспристрастии автора. Тем существеннее, что первым — по дате — рекомендовал Пастернака Комитету именно он.
Спустя два месяца Симмонс выступил и с публичной поддержкой Пастернака, поместив специальную статью о нем — первую свою работу, целиком посвященную Пастернаку, — в нью-йоркском еженедельнике «The Nation», считавшемся бастионом леволиберальных политических сил. Частично она воспроизводит прежние его лаконичные замечания о поэте. Начинается статья с упоминания о личной встрече с Пастернаком — по-видимому, в 1947 году (когда Симмонс приехал в Москву с утопической идеей об установлении связей между только что созданным Русским институтом при Колумбийском университете и советскими учреждениями и получил там резкий отпор). Уже тогда Пастернак считался знатоками самым крупным поэтом, рожденным советской революцией. Однако в 1943 году, в длинном официальном докладе, посвященном 25-летию советской литературы, А. Н. Толстой (отмечает Симмонс) умудрился вовсе не упомянуть его имени. Не будучи ни коммунистом, ни «социалистическим реалистом», этот «поэт для поэтов», по терминологии Маяковского, годами замалчивался у себя на родине, в то время как на Западе он был идолом лишь для узкого круга маленьких журналов и специалистов по русской литературе. Но сейчас, из-за реакции против диктата государства в советской литературе, этот седовласый 68-летний поэт вдруг приобрел широчайшую известность, которой власти пытались его лишить. Излагая его литературную биографию, Симмонс подчеркивал, что утрата Пастернаком былой славы еще перед войной стала прямым следствием отказа идти в ногу с толпой и служить социалистическому реализму. Единственное упоминание, которого он удостоился, — писательская резолюция по поводу доклада Жданова, в которой пастернаковскую поэзию обвинили в безыдейности и отрыве от масс. «Погруженный в прошлую культуру России и Западной Европы, читающий и с большой глубиной рассуждающий на английском, французском и немецком языках о произведениях Джойса, Пруста и Кафки, он смотрит на советскую действительность с мудрой отрешенностью обнимающего вселенную кругозора. Его произведения не содержат ни коммунистических лозунгов, ни поношения империалистического капитализма. Он осуществляет свою собственную революцию — бунт этот поднят, однако, во имя искусства, против штампованных рифм и синтаксиса, против изношенных форм и предметов». Высоко оценив прежние прозаические вещи поэта, Симмонс перешел к сенсационной новости, о которой шумела европейская печать: к «Доктору Живаго». Он писал: «Насколько можно судить по немногим иностранным рецензиям о „Докторе Живаго“, в его большом романе не осталось следов той сложности, которая характерна была для стиля и повествовательного метода ранней его прозы. Нередко в искусстве случается, что язык, которым пользуются в юности для утаивания, в старости служит противоположной цели. Более того — кажется, что наибольшее влияние на этот советский роман, который Пастернак — как сообщают корреспонденты — считает своим самым значительным литературным достижением, оказал виртуоз простоты Лев Толстой». «Нет никакого сомнения, — заключал Симмонс, — что „Доктор Живаго“ будет всюду расценен как защита творческой мощи личности, сбросившей оковы, и как символ верности Пастернака ценностям, отличным от подконтрольной советской литературы»[1390].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "От Кибирова до Пушкина"
Книги похожие на "От Кибирова до Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Лавров - От Кибирова до Пушкина"
Отзывы читателей о книге "От Кибирова до Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.