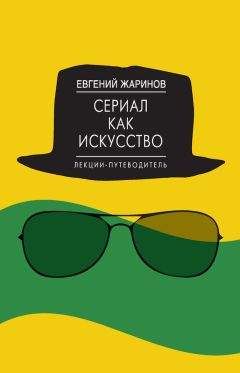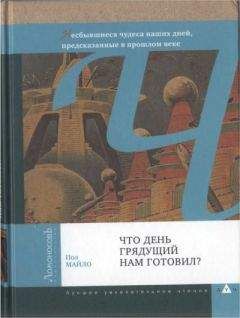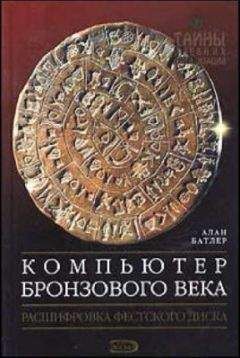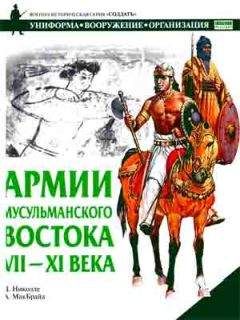Александр Лавров - От Кибирова до Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "От Кибирова до Пушкина"
Описание и краткое содержание "От Кибирова до Пушкина" читать бесплатно онлайн.
В сборник вошли работы, написанные друзьями и коллегами к 60-летию видного исследователя поэзии отечественного модернизма Николая Алексеевича Богомолова, профессора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В совокупности большинство из них представляют коллективный набросок к истории русской литературы Серебряного века. В некоторых анализируются литературные произведения и культурные ситуации более раннего (первая половина — середина XIX века) и более позднего (середина — вторая половина XX века) времени.
Дополнительный резонанс этой статье — едва ли не первой по времени о Пастернаке в тот период в «большой» американской журнальной прессе — сообщала вторая, редакционная, заметка «Нобелевский кандидат» в этом же номере, заявлявшая о недопустимости того, что Пастернак остается единственным великим поэтом современности, до сих пор не удостоенным награды[1391]. Обе эти публикации, несомненно, должны были быть учтены Комитетом во время процедуры обсуждения кандидатур. Позднее, в октябрьские дни, «Литературная газета» в редакционной заметке «The Nation» усмотрела толчок к развязыванию международной «провокации»[1392].
Второй номинатор, Гарри Левин, был одним из самых авторитетных в США представителей литературной и академической жизни, специалистом по английской литературе и общему литературоведению. Не владея русским языком, он, однако, живо интересовался русской литературой. В 1940 году его коллега по университету, историк М. М. Карпович, представил ему только что эмигрировавшего из Европы В. Набокова, и Левин с Эдмундом Вильсоном познакомили его с Джеймсом Логлином, вскоре выпустившим в своем издательстве «New Directions» первый набоковский американский роман «The Real Life of Sebastian Knight»[1393]. Еще до выхода романа Набоков дебютировал с переводами стихов Ходасевича в «советской» подборке ежегодника, которой издательство откликнулось на войну; там его публикация оказалась в вопиющем контрасте с остальными публикациями раздела, целиком отведенного советским поэтам[1394]. Левин принял большое участие в основании в Гарварде после войны кафедры славянских языков и литератур. С творчеством Пастернака (которого он несколько раз упомянул в своих статьях об Э. Вильсоне и Набокове, вошедших в книгу «Memories of the Moderns», <New York:> New Directions, <1980>) Левин ознакомился по сборнику, выпущенному издателем «New Directions» в конце 1949 года. Жена его, Елена, была русской, племянницей известного до революции адвоката А. С. Зарудного (защищавшего М. Бейлиса на процессе)[1395]; в середине 1950-х годов она перевела по рукописи «Дневник изгнания» Л. Д. Троцкого, а в 1967-м опубликовала письма Пастернака к Джорджу Риви, приобретенные в 1965 году библиотекой Гарвардского университета[1396].
Когда в 1957–1958 годах решением гарвардской администрации кафедры европейских языков и литератур были слиты в одно отделение (Division), его главой был назначен Левин[1397] (это его положение и отмечено в подписи под письмом). Ценность его рекомендации в глазах нобелевского жюри могла заключаться как раз в отдаленности от русских контроверз и, вследствие этого, в свободе от какой бы то ни было предвзятости. В противоположность Симмонсу он ни в какой степени с «советологической» деятельностью связан не был.
Предложил ему написать в Стокгольм, можно полагать, его коллега по университету и близкий друг Ренато Поджиоли[1398], с 1946 года преподававший в Гарварде на кафедре сравнительной литературы, а чуть позднее — вместе с Романом Якобсоном и на кафедре славянских литератур. Поджиоли, еще в тридцатые годы завоевавший известность в Италии в качестве знатока современной русской и других славянских литератур, в начале Второй мировой войны эмигрировал в США и сразу после ее окончания восстановил связи с родиной. Совместно с Луиджи Берти он приступил к изданию во Флоренции авангардистского журнала «Inventario», наладив сотрудничество и обмен материалами между ним и издательством Логлина «New Directions»[1399] и пригласив в международный редакционный комитет Т. С. Элиота (по отделу английской литературы), Гарри Левина (американской), Владимира Набокова (русской), Манфреда Кридля (польской) и др. В этом журнале он напечатал «Детство Люверс» и собственные стихотворные (метрические, с рифмами) переводы из Пастернака[1400], включенные в подготовленную уже осенью 1947 года антологию «Fiore del verso russo». Как уже упоминалось, Пастернак в ней предстал главной фигурой русского литературного авангарда XX века[1401]. Часть справочного материала оттуда Поджиоли перенес в статью о Пастернаке, написанную в 1958 году и опубликованную накануне вынесения Нобелевским комитетом своего вердикта[1402].
К концу 1957 — началу 1958 года известность Пастернака в Италии мгновенно выросла не только из-за появления романа, но и из-за выхода в издательстве Эйнауди большого стихотворного тома поэта в переводах А. М. Рипеллино (с параллельными текстами в оригинале), впервые представившего читателям в разных странах (включая русских эмигрантов) пастернаковский творческий путь в целостном виде. Поджиоли был одним из тех в Америке, кто первым ознакомился с «Доктором Живаго» в издании Фельтринелли и был, более того, в курсе дебатов о нем в итальянской прессе[1403]. Статья его представляет особый интерес именно потому, что находится на скрещении итальянских откликов на «открытие Пастернака» и восприятия пастернаковской истории в контексте американской культурной жизни. Одновременно с ее написанием, в осеннем семестре 1958 года, Поджиоли объявил в Гарварде аспирантский семинар по «Доктору Живаго» — по-видимому, вообще первый в мире университетский курс о поэте, притом в момент, когда оригинальный текст романа еще не был доступен широкому читателю.
Оценка «Доктора Живаго» в статье вырастает из общей концепции места пастернаковской поэзии в истории новой русской литературы. Для Поджиоли Пастернак органически связан с движением авангарда начала века; он — и единственный представитель того периода в сегодняшней России, и лучшее его воплощение в искусстве, затмившее собой самые смелые эксперименты футуризма. Анализируя причины конфликта поэта с советской Россией, он видит их в том, что Пастернак остался верен своему призванию, тогда как государство никакой верности не терпело, кроме лояльности самому себе, и этим вызваны нападки на поэта, обвиненного в индивидуализме, формализме, чуждости марксистской идеологии. Не во имя компромисса, а из скромности он пытался объяснить читателю себя и свое отношение к революции, обратившись к эпосу в стихах и выйдя в прозу. Считая пастернаковский роман осознанно следующим классической традиции, Поджиоли полагал, что обращение к традиционной форме у Пастернака обусловлено как стремлением отчетливо выразить и объяснить свое неприятие эпохи, так и отвержением «социалистического реализма» — этой уродливой карикатуры на классический реализм. При этом критик высказывал сожаление, что поэт от своих прежних стихов отрекся: «Было бы несправедливостью по отношению к Пастернаку — как человеку и писателю — соглашаться с таким ретроспективным утверждением, что вся его стихотворная продукция была лишь подступом к „Доктору Живаго“, — который является нравственным поступком и психологическим документом огромной ценности, но не кульминацией его творчества. Стихи его — больше чем просто наброски к роману, и хотя „Доктор Живаго“ далеко возвышается над всей советской литературой, произошло это не только благодаря уровню Пастернака-романиста, но и из-за посредственности его соперников». Поэтому Поджиоли высказывал надежду, что после романа автор вновь обратится к поэзии, в которой ему удается выразить свои идеи в более сложной, свойственной авангарду форме, чем позволяет проза, и заканчивал статью заявлением: «Если Пастернаку присудят Нобелевскую премию — и здесь я выдвигаю его имя в качестве самого достойного кандидата, — то я надеюсь, что это будет признанием его не только как романиста, но и как поэта».
Таким образом, статья Поджиоли и мартовская статья Симмонса служили печатными обоснованиями и подтверждениями их обращений в Нобелевский комитет.
Особое место занимает письмо P. O. Якобсона в этом досье. Как явствует из него, он по возвращении из зарубежной поездки сразу послал в Стокгольм телеграмму — с тем, чтобы успеть в срок предупредить о своей номинации. Возникает вопрос, что именно заставило его и внести кандидатуру Пастернака, и так торопиться с представлением ее: ведь ранее, в том же сезоне, без всякой спешки он выдвинул и другого собственного своего кандидата — англоирландскую писательницу Элизабет Боуэн (Elizabeth Bowen, 1899–1973). Мы полагаем, что присоединиться к «пастернаковскому» движению Якобсон решил, услышав от Поджиоли о его, а также, возможно, и Гарри Левина рекомендациях. Так как его письмо прибыло с опозданием, в качестве номинации оно зарегистрировано не было, но, несомненно, столь же тщательно рассматривалось членами Комитета, как и остальные документы дела. В Швеции хорошо знали Р. Якобсона и помнили его по краткому пребыванию в стране во время войны, после бегства из Чехословакии. Мнение его должно было обладать особым весом по двум дополнительным обстоятельствам. Во-первых, как мы помним, в сентябре члены Нобелевского комитета подчеркнули целесообразность выдвижения кандидатуры Бориса Пастернака в его родной стране. Такое пожелание не обязательно имело чисто политическую подоплеку: ведь не вполне оправданным выглядело — в особенности в случае с поэтом! — то, что поступавшие в Комитет с 1946 года номинации исходили исключительно от экспертов, для которых русский язык не был родным. В этом отношении обращение Якобсона — не только автора основополагающих работ по новейшей русской поэзии, но и участника русского литературного авангарда — такой пробел восполняло. Во-вторых, его нельзя было считать заклятым врагом советской власти, бойкотирующим (как Г. П. Струве) СССР и поэтому не свободным от политических предубеждений в оценке явлений русской литературы: с 1956 года Якобсон получил возможность посещать Советский Союз и приступил к «наведению мостов» с учеными за «железным занавесом». Вот почему, по-видимому, Поджиоли и считал необходимым вовлечь его в нобелевскую кампанию.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "От Кибирова до Пушкина"
Книги похожие на "От Кибирова до Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Лавров - От Кибирова до Пушкина"
Отзывы читателей о книге "От Кибирова до Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.