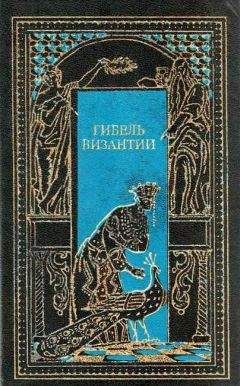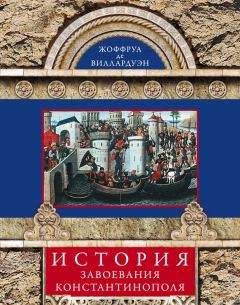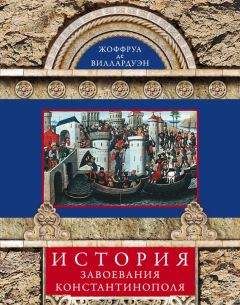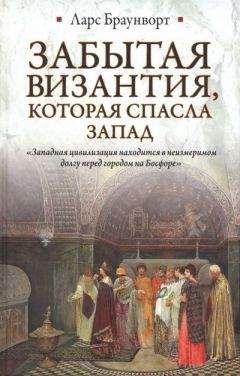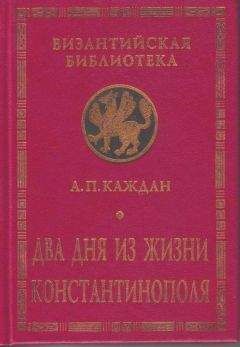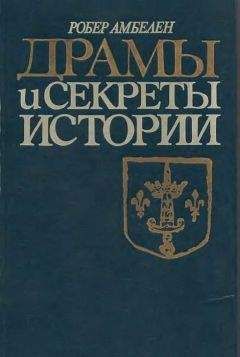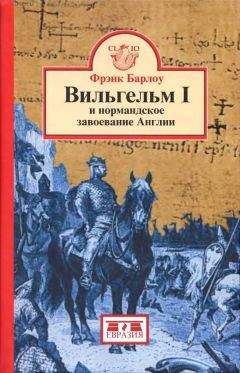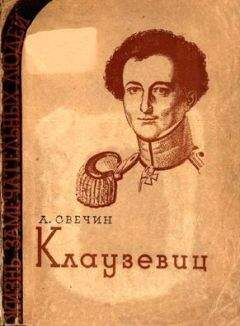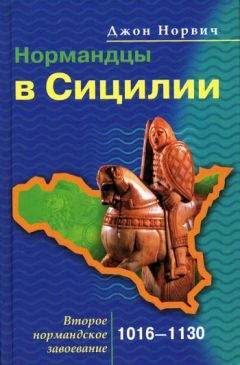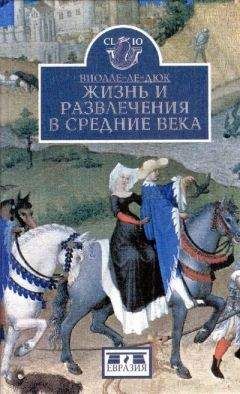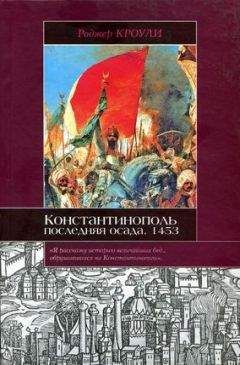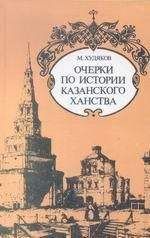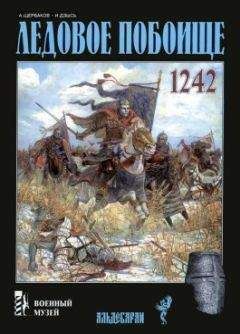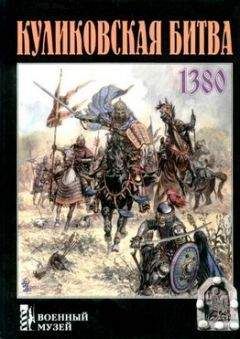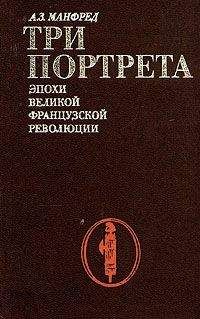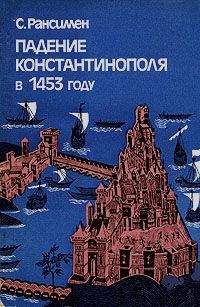Робер Клари - Завоевание Константинополя
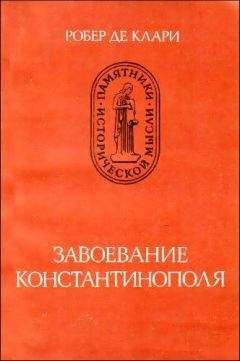
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Завоевание Константинополя"
Описание и краткое содержание "Завоевание Константинополя" читать бесплатно онлайн.
Хроника Завоевание Константинополя, созданная в начале XIII века, принадлежит к числу первостепенных источников по истории захвата Константинополя рыцарями-крестоносцами в 1203 - 1204 гг. Вместе с тем она представляет собой замечательный памятник исторической мысли феодальной эпохи. Книга снабжена солидным научным аппаратом и сопроводительной статьей.
Рассказ Робера де Клари — это искренняя апология рыцарского героизма, но характер повествования с этой точки зрения тоже противоположен виллардуэновскому. Насколько маршал Шампанский скрупулезен в подробностях и субъективен в истолковании фактов, настолько он в общем сух в изложении событий и вместе с тем постоянно выказывает свое тщеславие, стараясь везде, где это возможно, выпятить собственные заслуги в предводительстве походом, в дипломатических переговорах, в совете «высоких баронов» и проч., настолько же Робер де Клари расплывчат и иногда неточен в передаче событийной стороны рассказываемого, допускает прямые ошибки, хотя в то же время явно стремится нарисовать объективную картину истории похода. В отличие от маршала Шампанского пикардиец подчас добавляет к рассказам о виденном и слышанном изрядную толику собственной выдумки, проявляя в определенной мере художественный вкус. Все это придавало его повествованию элемент занимательности, делало его «актуальным»- для той аудитории, которой оно предназначалось.
Робер де Клари зачастую неточен в хронологии — датировка событий у него почти всегда приблизительна: «прошло немного времени», «а потом случилось однажды» и т. д. Труднообъяснима ошибочная датировка начала крестового похода: в первой главке оно отнесено то ли к 1203 г., то ли к 1204 г. «от воплощения». Между тем Робер де Клари в это время находился с войском у Константинополя, давно покинув свою Пикардию... Может быть, виновник ошибки — тот, кто записывал его рассказ? Как бы то ни было, хронологические ляпсусы — минус произведения Робера де Клари, давший основание ряду исследователей «дисквалифицировать» его труд[65]. Необходимо, однако, принимать во внимание общий характер хроники как своеобразного памятника исторической мысли XIII в.; Робер де Клари предлагает в определенной мере новеллистическую, сдобренную его собственными вымыслами версию событий. Он не стремится к педантичной точности и строгой последовательности. Его рассказ, например, о «чудесах» Константинополя, архитектурных достопримечательностях, церквах и т. д. сумбурен, беспорядочен и неполон. Автор полагается на всякого рода россказни, некритично принимает на веру предания и небылицы, проявляет легковерие. Да Робер де Клари, собственно, и не собирался рисовать исчерпывающую картину событий крестового похода. Он хотел поведать только то, что видел собственными глазами. В тех же случаях, когда ему недостает непосредственного знания, он, как человек малообразованный, обращается к легендарной традиции, поверьям, словом, в плане исторической достоверности к сомнительным источникам информации.
Сам Робер де Клари, как мы видели, не склонен был переоценивать свои таланты повествователя. Он отдавал себе отчет в том, что другие «добрые рассказчики» смогли превзойти его в искусстве повествования. Тем не менее автор по-своему искусен в компоновке материала. Он умеет привлечь внимание слушателей и, главное, последовательно провести свою концепцию, даже когда прерывает логическую нить рассказа. Именно так обстоит дело с многочисленными «вставными эпизодами» и отступлениями: экскурсами в политическую историю Византии (гл. XVIII — XXIX), рассказами о приключениях Конрада Монферратского в Иерусалимском королевстве (гл. XXXIII — XXXVIII), о попытке болгарского царя Калояна («Иоанна ли Блаки») воспользоваться крестовым походом в собственных интересах, об истории его возвышения, союза с куманами, о содействии, оказанном ему апостольским престолом в коронации (гл. LXIV — LXV), заметками относительно образа жизни кочевников-куманов (гл. LXV), эпизодом, где фигурирует некий «король Нубии», совершающий длительное паломничество и временно проживающий в Константинополе (гл. LIV).
Все эти факты независимо от степени их исторической достоверности только на первый взгляд кажутся вставленными нарочито, ради оживления повествования, но на самом деле включены в него таким образом, что каждый из них подкрепляет общую авторскую концепцию, служит, несмотря на «вырванность» из логического контекста и обособленность, реализации целостного замысла — идее, в соответствии с которой бароны, «предавшие» menue gent, в конечном счете получают заслуженную кару, хотя сам по себе захват Константинополя хронистом оправдывается.
Эпизоды эти, видимо, казались автору и особенно интересными, соответствовали его вкусу и темпераменту — пылкому и дерзостному. Пикардийцев называют «северными гасконцами» (picard, gascon du Nord), и Робер де Клари-историк как бы воплощал в себе нравы рыцарской среды своей родины. Человек безусловно умный и обладавший наблюдательностью, он в то же время был и поверхностно болтливым. Драматические коллизии дворцовых переворотов в Византии изображаются хронистом на уровне ходячей молвы и эффектных анекдотов. Поведать аудитории «одну только правду» Роберу де Клари не удалось. Подлинная история в его повествовании порой деформирована: она перемежается домыслами, вольными толкованиями фактов, ошибками в их оценках, что, впрочем, вообще свойственно средневековой хронографии.
Нужно иметь также в виду, что Робер де Клари, при всем его субъективном стремлении передавать «одну только правду», и не в состоянии был точно рассказать обо всех событиях Четвертого крестового похода — прежде всего по той причине, что о многом он вообще не знал и не мог знать. «Пункт наблюдения», с которого хронист вел свой рассказ, не обеспечивал ему ни полноты, ни точности информации.
Не приходится, однако, сомневаться, что субъективно он действительно старался быть беспристрастным — в той мере, в какой эта беспристрастность укладывалась в прокрустово ложе социальной ориентированности его рассказа. Если, с одной стороны, данные хронистом истолкования ряда фактов неадекватны истине и отражают лишь «общественное мнение» рыцарской массы, то, с другой — Робера де Клари трудно обвинить и в намеренной тенденциозности. Напротив, едва ли кто-нибудь из латинских историков крестового похода 1202—1204 гг. (прежде всего это относится к Жоффруа де Виллардуэну) сумел сохранить такую объективность, как пикардийский рыцарь. Для всей латинской хронографии в высшей степени характерна тенденция обелить крестоносцев, снять с них обвинения в алчности, корыстолюбии, тщеславии и пр. Робер де Клари тоже не свободен от «пропагандистских» трафаретов, исходивших от власть имущих, но он и не мог ведь целиком от них отгородиться: в какой-то степени и ему присуще видение событий, которое навязывали воинству «высокие бароны» и венецианцы, державшие в своих руках нити предводительства[66]. Тем не менее Робер де Клари именно благодаря своей субъективной честности сумел быть и критичным по отношению к сильным мира сего. В этом смысле концепция его хроники кардинально отличается от идейного содержания всех остальных созданных на Западе в XIII в. «историй» похода.
Записки пикардийца, несомненно, несут на себе отпечаток удовлетворенности и горделивого изумления тем, что Запад сумел претворить в жизнь давние противовизантийские стремления, которые в конформистском сознании католического духовенства, а также светской феодальной аристократии переплетались с идеей воссоединения латинской и греческой церквей. Однако вслед за первоначальным энтузиазмом у части рыцарства родилось нечто вроде смятения. Оно обнаружилось еще до захвата Константинополя. Робер де Клари красноречиво передает неустойчивость настроения и растерянность в стане рыцарей. Епископам пришлось увещевать воинство идти на штурм города, воздействовать на рядовых крестоносцев доводами, соответствовавшими уровню их общественного сознания. Греки-де — коварные предатели, убийцы своего государя, а главное, они «неверные», они вышли из повиновения римскому закону (гл. LXXII, LXXIII). «Пилигримы» могут поэтому, идя на приступ, вполне заслужить прощение от бога и от папы, именем которых священнослужители отпускали грехи тем, кому предстояло атаковать христианский город (гл. LXXIII). Факты преподносятся в хронике таким образом, что «епископы и клирики» старались как бы внести успокоение в смятенные умы, погасить смутно ощущавшееся некоторой частью крестоносцев чувство «неправедности» совершаемого ими завоевания и, напротив, разжечь у них пламя негодования против схизматиков, которые якобы считали «псами» тех, кто исповедует римский закон, утверждая, что римская вера «ничего не стоит» (гл. LXXII). Как и остальные «воины креста», Робер де Клари не смог устоять перед столь концентрированным пропагандистским нажимом — ведь крестоносное воинство не было обременено чрезмерной совестливостью, а его рядовые участники не обладали способностями к трезвому рассуждению, которое позволило бы им усомниться в обоснованности церковной проповеди. Увещевания «епископов и клириков» одержали верх над неясными укорами религиозной совести у отдельных элементов рыцарства. Робер де Клари думал и чувствовал в полном соответствии с таким исходом коллизии, едва намечавшейся в массе воинов, — между ее довольно чахлым эмоциональным порывом к «праведным деяниям» и официальными установками духовных пастырей. Уступая им, пихардиец тоже признает, что война против греков является «справедливой».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Завоевание Константинополя"
Книги похожие на "Завоевание Константинополя" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Робер Клари - Завоевание Константинополя"
Отзывы читателей о книге "Завоевание Константинополя", комментарии и мнения людей о произведении.