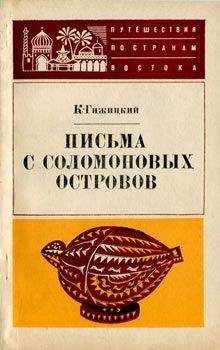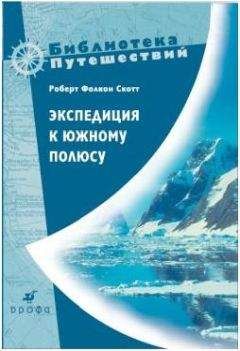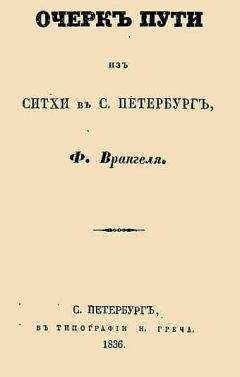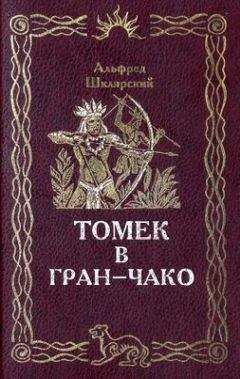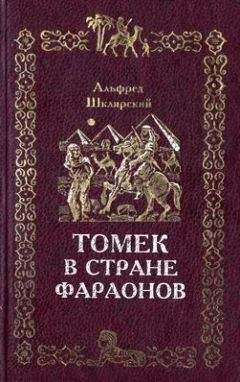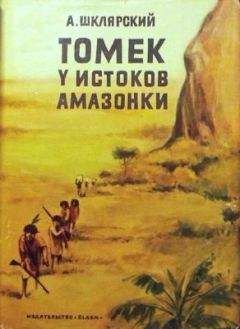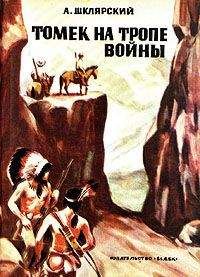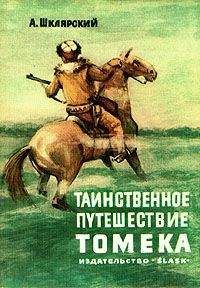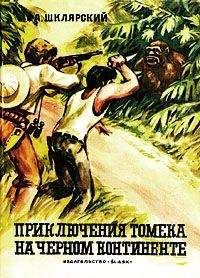Мариэтта Шагинян - Зарубежные письма
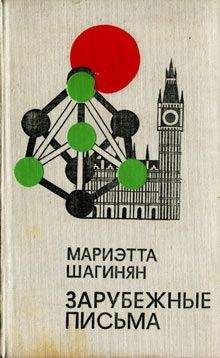
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Зарубежные письма"
Описание и краткое содержание "Зарубежные письма" читать бесплатно онлайн.
Надо сказать — мне вообще невероятно везло с моей «Сокровищницей тайн». «Литературная газета» неожиданно поместила в те дни статью Кристофера Мэхью, сотрудника тогдашнего Британского совета в Лондоне, ведавшего советскими вопросами и относившегося к нам отнюдь не с «симпатией». Статья касалась возникавшей проблемы обоюдного туризма, и Кристофер Мэхыо ратовал в ней не только за коллективный туризм (группами, с гидом), но и за возможность индивидуального туризма, то есть поездок в одиночку. Вслед за ней появилась в «Литературке» другая, наша статья, решительно критиковавшая Мэхыо за его «индивидуальный туризм». И вот, приехав по командировке в Лондон, я в первый же день по приезде очутилась лицом к лицу не с кем иным, как с Кристофером Мэхыо.
В этот день в советском консульстве был скромный (не посольский) прием для наших, только что прибывших, работников просвещения, и Мэхью оказался в числе приглашенных англичан. Нас подвели друг к другу знакомиться. Услышав его имя, я воскликнула: «Мистер Мэхью! Я читала вашу статью в «Литературке»! И совершенно согласна с вами насчет индивидуального туризма…» Справа и слева ребра мои ощутили предостерегающее нажатие — чтоб не зарывалась. Все-таки ведь «не симпатизирует советской власти». Но мое неосторожное восклицанье было сделано от души — лично для меня коллективный туризм был мукой. С плохим слухом и зрением, но всегда с собственными познавательными целями — узнать для работы то-то и то-то, повидать для работы то-то и то-то — я просто прозябала бы в группе с гидом, теряя время на осмотр ненужного мне, знакомого с самой ранней юности и не имея возможности почитать или повидать нужное. И тут — неожиданно — на лице Мэхью расцвела улыбка. Улыбка удовольствия на лице сугубо официальном. Не просто улыбка — но знакомая мне, близкая мне, — улыбка автора. Кристофер Мэхью улыбнулся как автор неожиданно признанной и похваленной собственной статьи. Лед сдвинулся, завязался разговор.
— Вы приехали как туристка?
— Нет, мне до зарезу надо (heighly essential! — на плохом английском) позаняться в библиотеке Британского музея, но заранее знаю, что это очень трудно, невозможно, из-за недостатка свободных мест…
— Где вы остановились?
Называю гостиницу. И всё. Утром мне принесли элегантный конверт с печатью Британского совета на конверте. В нем было нечто вроде наших анкет, но с одним-единственным вопросом: над чем именно хочу заниматься в библиотеке? И письмо — с просьбой заполнить ее и «отправиться с этой анкетой в дирекцию библиотеки», — когда и в котором часу мне будет удобно.
Сейчас этому первому моему свиданью со знаменитой Ридинг-рум уже много лет. Но хорошо помню поспешность, с какой я использовала это «когда и в котором часу»: захватив тетрадку и карандаш, я тотчас помчалась, держа перед носом раскрытый план, на Руссель-сквер, к великолепному зданию музея, окруженному массивной решеткой. Сейчас это здание, как почти все в консервативной Англии, начиная с денежной системы и кончая числом этажей на новых жилищных корпусах, модернизируется, поддалось «веянью времени», — и милый, маленький, но такой вместительный, маленький, но такой огромный для того, кто имел счастье работать в его круглом храме под высоким, полным воздуха куполом, читальный зал будет разобран, перестроен, увеличен, а может быть, уже перестроен и увеличен, а может быть, и вовсе покинут и обрел бытие в другом, резко расширенном и модернизированном архитектурном пространстве? Но, как и множеству людей, англичан и неангличан, мне жалко его, жалко места, где сиживал Владимир Ильич, где дважды посчастливилось работать и мне.
До своей перестройки (если она сейчас уже произошла) читальня Британского музея выходила из своей тес-поты своеобразным разделением пространства и очень экономным его использованием — первое для посетителей, второе для книг. Очень мало читателей сидело в самой Ридинг-рум, центральной круглой комнате. Рукописное отделение имело свой зал, газетное — на втором этаже; новые, только что вышедшие книги помещались для читателя тоже в особой комнате. Книги — помимо фондовых помещений — тесно смыкали свои ряды поясами-полками по вогнутым стенам центрального круглого зала, и к ним вели лесенки, и шли они друг над другом, как ожерелья, — и эти ячейки книг, идущие вдоль стен по стройному кругу, казались на первый взгляд, в их музыкальном подъеме чуть ли не до самого купола и с фигурками человечков, обходивших по узким железным дорожкам, словно по мостикам, их бесконечные этажи, чем-то вроде пчелиных ульев, хранящих медовые соты человеческой мудрости. За два срока, разделенных годами, когда мне довелось работать в библиотеке Британского музея, у меня ни разу не было чувства тесноты, ни разу не приходилось подолгу ждать книгу или свободного места.
В этот мой первый приезд — как, собственно, и во второй — сидеть в самом «читальном зале» мне не пришлось, — я прошла из дирекции в длинную и узкую, заставленную удобными пюпитрами со стойками, комнату рукописей. Заведующий очень скоро принес и расположил на стойке, как ноты перед оркестрантом, довольно неприглядную рукопись Хиндлея, с первым переводом моей «Сокровищницы» на европейский язык. Наклейка на ней, списанная в тетрадку, пышно гласила: «John Haddon Hindley. Sketch of Makhsan ul Asrar. Additional 6961. Br. Mus.». И эго в самом деле был не столько дословный перевод, сколько «скетч». Я сразу же нашла в нем расхождения с подстрочником Ромаскевича и совершенно не нашла, даже в намеке, тот великий социальный смысл, какой выявляли мы, советские переводчики, в глубинной мудрости Низами. Сидя в уютном уголку «восточного отделения», предназначенного для чтения рукописей, и разбираясь, при помощи лупы, в неровных строках «любительского» почерка Хиндлея; глядя на эту рукопись, еще недавно бывшую несбыточной мечтой, а вот сейчас, сию минуту, ставшую реальностью, я вдруг необычайно сильно почувствовала разницу между «они» и «мы» — и огромную передовую мощь марксистского анализа. Большевиков «они» на Западе представляют себе разрушителями, какими-то Геростратами, молотком разбивающими античных «Фидиев». А между тем в руках у нас — вместе с марксистской диалектикой, марксистским историзмом в подходе к произведенью искусства — находится как бы «кристалл времени», тот самый кристалл, который Пушкин интуитивно назвал «магическим» («И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал…»), — кристалл времени, стереоскопично раскрывающий текст. И мы с удивительной ясностью глядим и видим сквозь этот кристалл — сразу, одновременно, перспективно в пространстве — его исторической фон, среду, социальную направленность, связь человека с эпохой, обществом, судьба его, — как растение с корнем в земле, с листвой и кроной над ним, — и все это вместе с общим земным пейзажем вокруг него. Для меня «Сокровищница» говорила живым голосом исторического человека и весь этот человек возникал, был видим и был увиден, как живой… А тут, в рукописи, лежало мертвое для переводчика «произведение, написанное калямом», восточным пером, восемь столетий назад, чуждое современности, нужное только библиотечно: Additional 6961, дополнительный № 6961. Но кроме этой огромной разницы, кроме чувства ожившего прошлого для марксистского литературоведения, чувства связи между тем, что было, и тем, что есть, — постепенно добавлялось мне и другое чувство, рожденное, быть может, именно благодаря первому: чувство схожести между библиотеками всего мира, пронесенной через века…
Пока я сидела и мудрствовала над Хиндлеем, жизнь вокруг шла своим чередом. Несколько стариков, сидевших рядом, погруженных в свои рукописи, — с перхотью на старомодных воротниках, с очками на побуревшей переносице, с потрепанными, как у меня, тетрадями; свет из-под зеленых абажуров, падающий на страницы в сумерках полутемной комнаты; фолианты, кучкой, с обычной жадностью читателя, наложенные сбоку, хотя до них, должно быть, неделя пройдет, покуда они понадобятся, — и… Милый, никогда раньше не виданный, но абсолютно знакомый человек, тоже в очках, но совсем не старый, тоже одетый не по моде, приносит мне большущий печатный том, — это каталог всех армянских рукописей, находящихся в библиотеке Британского музея. Моя армянская фамилия внушила ему эту милую интернациональную библиотечную любезность. И я, чтоб не огорчить библиотечного работника, с благодарностью просматриваю богатейший каталог.
В сущности, библиотечные работники схожи между собой; и даже те, кто работают с книгой, читатели, — здесь они мало чем отличаются в своем библиотечном быту от наших читателей, — именно в быту. И весь этот быт — система каталогов, карточки для заказов, сдача, получение, отметки для оставления книги за собой, буфет — где-нибудь на втором, третьем, этаже, раздевалка, сам воздух, чуть-чуть пахнущий шелушеньем книжного тела — бумаги, картона, кожи, — наконец, человеческий типаж… У нас так часто цитируют слова Горького о книге, так часто пи-тут о значении книги в жизни человека — и так мало сказано вообще о сущности библиотеки, — кроме того, что библиотека — жилище книги. Но главная суть библиотеки совсем не в книге, не в том, что она хранит в своих стенах книгу. А в том, что в стенах ее — по режиму, почти схожему всюду, во всех странах мира, — книга непрерывно читается, движется из рук в руки, находится в потреблении не одного-двух, не десяти — двенадцати, а сотен и тысяч читателей. Сотни тысяч — в тишине и почти беззвучии множества библиотек — работают одновременно над книгами, и работают их мозги, и функционирует книга, раскрывая и отдавая себя читателю, — «и так как все материальное как бы незримо «лучится» — отдается в воздух — своеобразным излучением мозговой работы, получением-отдачей, — то само пребывание в библиотеках не нейтрально для человека. Оно происходит в особой библиотечной атмосфере, чем-то поддерживающей и повышающей уровень вашей работы. Сидеть над книгой у себя, в одиноком кабинете, или работать с книгой в переполненном читателями зале — никогда не было и не будет одним и тем же. Вот в этой атмосфере, как и в черточках одинакового быта, и родится тот особенный демократизм, о котором я упомянула выше…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Зарубежные письма"
Книги похожие на "Зарубежные письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мариэтта Шагинян - Зарубежные письма"
Отзывы читателей о книге "Зарубежные письма", комментарии и мнения людей о произведении.