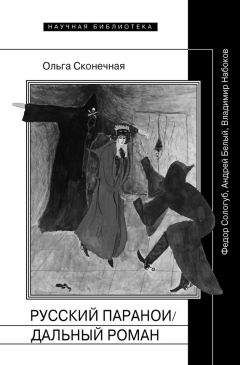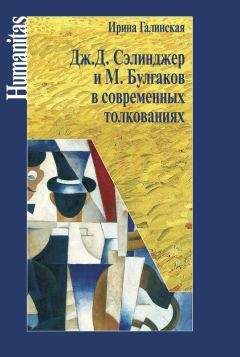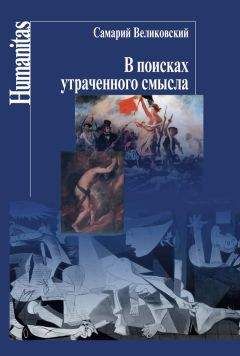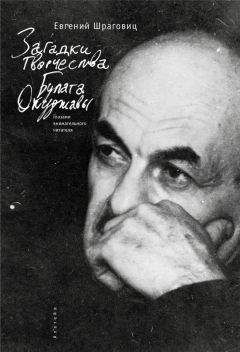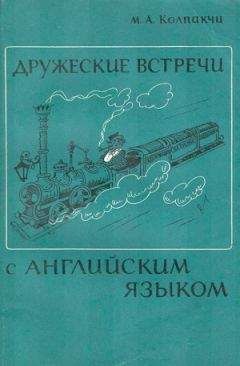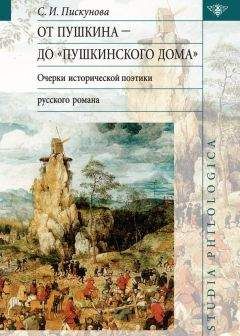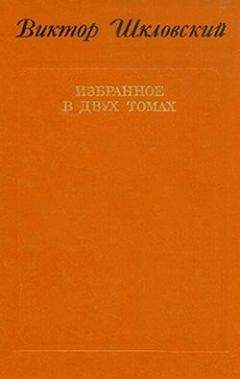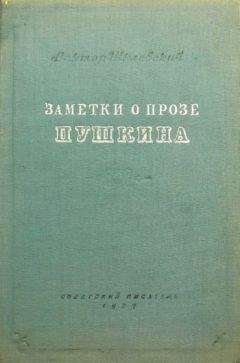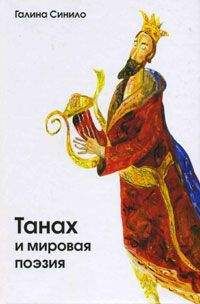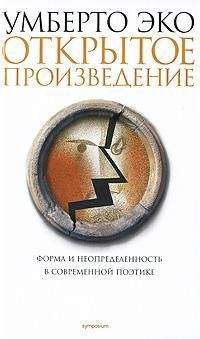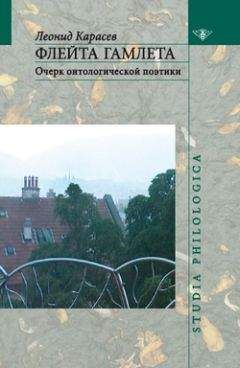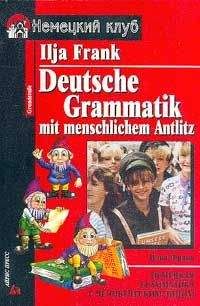Евгений Сошкин - Гипограмматика. Книга о Мандельштаме

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме"
Описание и краткое содержание "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме" читать бесплатно онлайн.
В книге израильского филолога предложено целостное описание поэтики Осипа Мандельштама. В рамках этой задачи конкретизируются, развиваются и многократно тестируются теоретические положения, сформулированные адептами интертекстуального метода еще в семидесятых – восьмидесятых годах прошлого века, но до сей поры не нашедшие систематического применения. Итогом этой масштабной работы становится экспликация ряда метанарративов, которые, в свой черед, обнаруживают общую морфологическую основу, сохраняющуюся на всем протяжении зрелого творчества Мандельштама. Важной составляющей исследования является анализ мандельштамовской адресации к живым и мертвым современникам – поэтам и интеллектуалам, среди которых Вячеслав Иванов, Марина Цветаева, Софья Парнок, Андрей Белый, Виктор Шкловский. Книга снабжена подробными указателями.
Траурный, погребальный, кладбищенский компонент регулярно проникал в Ан5, причем не только в качестве тематического ядра, но и независимо от общей темы[272]. Даже самый беглый взгляд на образцы обсуждаемого размера, создававшиеся известными поэтами на протяжении более чем ста лет, фиксирует значительную концентрацию текстов, содержание которых целиком или отчасти некрологично. И. Кукулин, специально изучавший Ан5, кажется, вплотную приблизился к такому же выводу. Его статью 1998 г. открывает пространное рассуждение о соприродности этого размера жанру элегии[273] и о природе этого жанра как таковой. Рассматривается, в частности, специфика элегической позиции по отношению к смерти. Среди примеров русского Ан5, приводимых вслед за этим, мы встречаем и ПД, и, например, песню Окуджавы на смерть Высоцкого (1980). В дальнейшем автор констатирует, что «в интерпретации Бродского пятистопный анапест не просто элегичен, а связан со смертью» [Кукулин 1998: 133], и затем весьма убедительно развивает это наблюдение. Оставалось только прибавить, что Бродский в данном случае лишь методично следует очень давней традиции, распространяя самый выразительный и устойчивый семантический признак Ан5 на весь массив своих текстов, написанных этим размером.
Итак, стихи, порождаемые названной традицией, как правило, реагируют на смерть близкого человека или некоего деятеля либо предсказывают смерть лирического субъекта[274]. Ко времени появления стихов Мандельштама на смерть Белого эта жанрово-тематическая предрасположенность Ан5 вполне уже за ним закрепилась. Вот несколько примеров:
Их Господь истребил за измену несчастной отчизне, / Он костями их тел, черепами усеял поля. / Воскресил их пророк: он просил им у Господа жизни. / Но позора Земли никогда не прощает Земля. // Две легенды о них прочитал я в легендах Востока. / Милосердна одна: воскрешенные пали в бою. / Но другая жестока: до гроба, по слову пророка, / Воскрешенные жили в пустынном и диком краю. // В день восстанья из мертвых одежды их черными стали, / В знак того, что на них – замогильного тления след, / И до гроба их лица, склоненные долу в печали, / Сохранили свинцовый, холодный, безжизненный цвет (И. Бунин, «За измену», <1903–05>);
Тут покоится хан, покоривший несметные страны, / Тут стояла мечеть над гробницей вождя <…> (он же, 1907);
Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны, / Черный ряд кипарисов в квадрате высокой стены, / Белизна мавзолеев, блестящих на солнце кругом, / Зимний холод мистраля, пригретый весенним теплом, / Шум и свежесть валов, что, как сосны, шумят за стеной, / И небес гиацинт в снеговых облаках надо мной (он же, 1917);
На земле ты была точно дивная райская птица / На ветвях кипариса, среди золоченых гробниц. / Юный голос звучал как в полуденной роще цевница, / И лучистые солнца сияли из черных ресниц. // Рок отметил тебя. На земле ты была не жилица. / Красота лишь в Эдеме не знает запретных границ (он же, «Эпитафия», 1917);
Бауман![275] / Траурным маршем / Ряды колыхавшее имя! / Шагом, / Кланяясь флагам, / Над полной голов мостовой / Волочились балконы, / По мере того / Как под ними / Шло без шапок: / «Вы жертвою пали / В борьбе роковой» <…> Где-то долг отдавался последний, / И он уже воздан. / Молкнет карканье в парке, / И прах на Ваганькове – / Нем. / На погостной траве / Начинают хозяйничать / Звезды (Б. Пастернак, «Девятьсот пятый год», 1926)[276];
…Дом сгорел… На чужбине пустынно, и жутко, и тесно, / И усталый поэт, как в ярмо запряженная лань. // Надорвался и сгинул. Кричат биржевые таблицы… / Гул моторов… Рекламы… Как краток был светлый порыв! / Так порой, если отдыха нет, перелетные птицы / Гибнут в море, усталые крылья бессильно сложив (Саша Черный, «Соловьиное сердце», <1926>. Посв. Памяти П. П. Потемкина).
Последний из процитированных текстов написан эмигрантом – как и ряд других, которыми можно пополнить перечень примеров (тут прежде всего должны быть названы стихотворения Поплавского из его сборника 1932 г. «Флаги»: «Hommage à Pablo Picasso», «Остров смерти», «Морелла I», «Морелла II», «Серафита II»). Также и в дальнейшем некрологическая традиция Ан5 (частично входящая в тематический цикл ‘Смерть поэта’, которому посвящена одноименная статья Г. А. Левинтона [1997]) поддерживалась в основном поэтами эмиграции (что, вероятно, в какой-то мере объясняется общим медитативным складом эмигрантской лирики)[277]:
…Словно оглохший от грома / Продолжал молотить – все равно ничего не поймут. / Обломалась педаль. Он вскочил. Он налил себе рому. / Отвернулся и плюнул. – Дурацкий Прелюд! – / А душа-то болела. Болела по-русски, бешено. / Он проклятьями трижды измерил прокуренный холл. / На рассвете кантонском, после ночи кромешной, / Узкоглазая девушка. Он ее называл «China Doll». / Да и та не спасла. Пистолет или яд? / Ничего не известно. Не говорят (Ю. Крузенштерн-Петерец, «China Doll», <1946>) [МЖТ 1994–1997: III, 231];
Ты пройдешь переулками до кривобокого моста, / Где мы часто прощались до завтра. Навеки прощай, / Невозвратное счастье! Я знаю спокойно и просто: / В день, когда я умру, непременно вернусь в Китай (В. Перелешин, «Издалека», 1953);
…Это, может быть, в первом изгнанье о нас говорится, / это, может быть, первое яблоко гонит нас в гроб. <…>…лишь одних похорон поучительный звон почитая, / Продолжительно к праху готовится наша душа (А. Присманова, «Церковные стекла») [I, 390–391];
…Иль уже навсегда в этом мире расчетливой скуки / Проживу и умру, как ненужный дворянский поэт, / И весеннею ночью, под сонного города звуки, / Я к виску своему не спеша поднесу пистолет. / Будет лучше мне там на пологой кладбищенской горке. / Белым пухом могилу осыпят мою тополя. / Будет суслик свистать, серым столбиком ставши у норки, / И, как в солнечном детстве, опять будут близки поля (В. Гальской, «Элегия») [III, 295–296];
Тишина, тишина. Поднимается солнце. Ни слова. / Тридцать градусов холода. Тускло сияет гранит. / И под черным вуалем у гроба стоит Гончарова, / Улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит (Г. Адамович, «По широким мостам…» <1967>);
Слежка. Обыск. Вот груда стихов на полу. / На сонете Петрарки / дописал перевод каблуком полицейский сапог. / За окном где-то ворон привычно-пророчески каркнул, / И поэта, подвластного злейшей / в истории всех олигархий, / увели за порог майской ночи, за жизни порог (Э. Боброва, «Боязливость ребенка…») [IV, 101][278];
Раздавили тебя. Раздробили узоры костей. / Надорвали рисунок твоих кружевных сухожилий, / И собрав, что могли из почти невесомых частей, / В легкий гроб, в мягкий мох уложили (Н. Берберова, «Гуверовский архив, Калифорния», 1978).
В 5-стопных анапестах, писавшихся в советских условиях, некрологическая линия проявлялась, например, в контексте фронтовой героики:
Что за огненный шквал! / Все сметает… / Я ранен вторично… / Сколько времени прожито: / сутки, минута ли, час? / Но и левой рукой / я умею стрелять на «отлично»… / Но по-прежнему зорок / мой кровью залившийся глаз… <…> Я теряю сознанье… Прощай! Все кончается просто… <…> (В. Занадворов, «Последнее письмо», 1942) [СППнВОВ 1965: 216–217];
А когда я умру и меня повезут на лафете, / Как при жизни, мне волосы грубой рукой шевельнет / Ненавидящий слезы и смерть презирающий ветер / От винта самолета, идущего в дальний полет (Л. Шершер, «Ветер от винта», 1942) [Там же: 607].
У Даниила Андреева, склонного дробить 5-стопные анапесты внутренней рифмой, в стихах 1950-х годов тюремно-лагерная тема преобразуется в картины загробного инфернального визионерства:
Обреченное «я» / чуть маячило в круговороте, / У границ бытия / бесполезную бросив борьбу. / Гибель? новая смерть? / новый спуск превращаемой плоти?.. / Непроглядная твердь… / и пространство – как в душном гробу («Русские боги», XV, 7);
…исполински размеренным взмахом / Длиннорукая волгра / меня подхватила на грудь. // Она тесно прижала / меня к омерзительной коже, / То ль присоски, то ль жала / меня облепили, дрожа… / Миллионами лет не сумел бы забыть я, о Боже, / Эту новую смерть – / срам четвертого рубежа. // Я был выпит. И прах – / моя ткань – в ее смрадные жилы / Как в цистерны вошла, / по вместилищам скверны струясь, / Чтобы в нижних мирах / экскрементом гниющим я жил бы… / Вот ты, лестница зла! / Дел и кар неразрывная связь («Русские боги», XV, 9);
Тамерлана ль величим, шлифуя его саркофаг мы, / Палача ль проклинаем проклятьем воспрянувших стран – / Спуск обоим – один («Русские боги», XV, 19)[279].
Иногда жанр (само)оплакивания подвергался сублимации либо травестии. Так, в стихотворном признании Шенгели 1939 г. («Поздно, поздно, Георгий!.. / Ты пятый десяток ломаешь…») поэт, несмотря на физическое здоровье, констатирует свою прижизненную, профессиональную смерть, а стихотворение Заболоцкого «Это было давно» (1957), ритмически восходящее к «Девятьсот пятому году»[280], дает сюжетную инверсию смерти поэта: «второе рождение» даруется голодающему поэту на кладбище, где старая крестьянка окликает его с невысокой могилы сырой и протягивает ему поминальную снедь: «И как громом ударило / В душу его, и тотчас / Сотни труб закричали / И звезды посыпались с неба. / И, смятенный и жалкий, / В сиянье страдальческих глаз, / Принял он подаянье, / Поел поминального хлеба». (Подобным же образом эсхатологическая труба кузнечика оживляла чертеж цветка на странице старой книги в написанном тоже Ан5 стихотворении Заболоцкого 1936 г. «Все, что было в душе».)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме"
Книги похожие на "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Сошкин - Гипограмматика. Книга о Мандельштаме"
Отзывы читателей о книге "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме", комментарии и мнения людей о произведении.