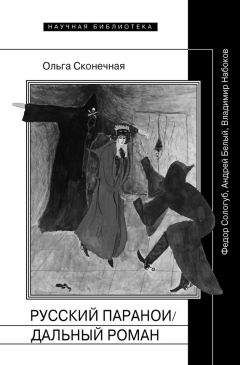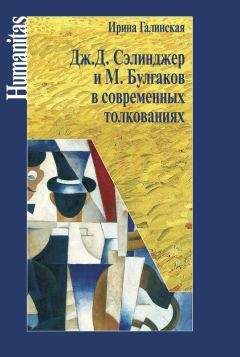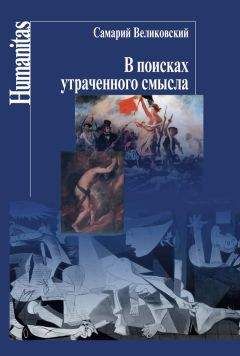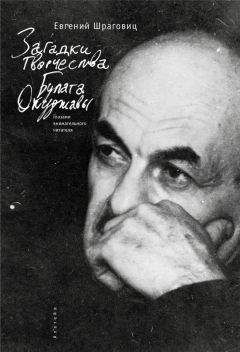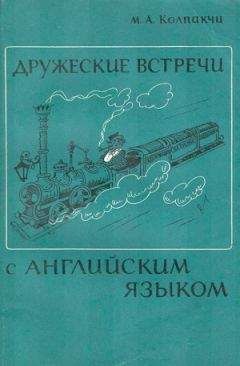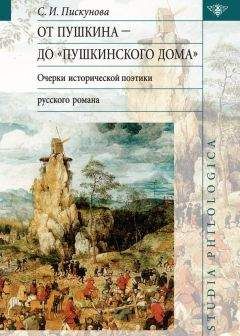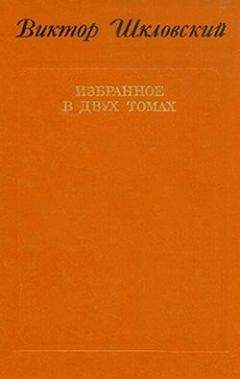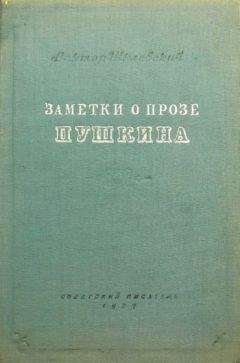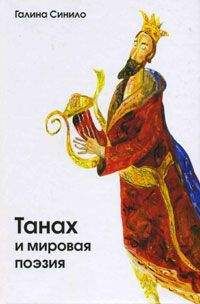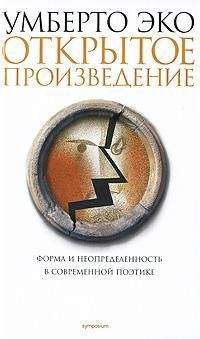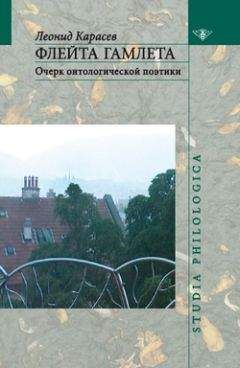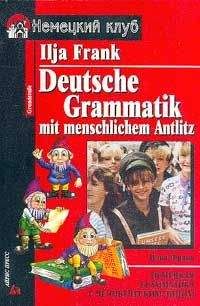Евгений Сошкин - Гипограмматика. Книга о Мандельштаме

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме"
Описание и краткое содержание "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме" читать бесплатно онлайн.
В книге израильского филолога предложено целостное описание поэтики Осипа Мандельштама. В рамках этой задачи конкретизируются, развиваются и многократно тестируются теоретические положения, сформулированные адептами интертекстуального метода еще в семидесятых – восьмидесятых годах прошлого века, но до сей поры не нашедшие систематического применения. Итогом этой масштабной работы становится экспликация ряда метанарративов, которые, в свой черед, обнаруживают общую морфологическую основу, сохраняющуюся на всем протяжении зрелого творчества Мандельштама. Важной составляющей исследования является анализ мандельштамовской адресации к живым и мертвым современникам – поэтам и интеллектуалам, среди которых Вячеслав Иванов, Марина Цветаева, Софья Парнок, Андрей Белый, Виктор Шкловский. Книга снабжена подробными указателями.
Эпитетом голубая Фет задал тенденцию к позитивной переоценке заточения в мировой тюрьме у младших символистов. Подобная переоценка в свое время уже имела место у романтиков (начиная радикальной трансформацией привычных схем в творчестве Новалиса [Махов 2002] и заканчивая противоречивой эклектикой русских авторов [Вайскопф 2002а: 234–237]), а теперь сместившейся от декадентской эстетизации «тюрьмы» в рамках ее обычной негативной подачи[328] к превращению «классической формулы “мир – тюрьма”» «в формулу “тюрьма – мир”, что означает экспансию внутреннего, воображаемого мира человека (диаволически воспринимающего внешний мир как собственную проекцию) на весь мир» [Ханзен-Лёве 1999: 100][329]. Знаменательно, что до символистов подобная переориентировка, начатая Руссо[330] и продолженная европейскими романтиками[331], совпала по времени со сменой европейской пенитенциарной парадигмы, когда, по определению М. Фуко [1999: 340], тюремное заключение получило двойное обоснование: одновременно и «юридическо-экономическое», т. е. искупительное, в этом своем аспекте отчасти наследующее логике традиционной казни, и «технико-дисциплинарное», т. е. исправительное, в соответствии с которым заключенному предстоит смириться, принять и наконец полюбить тюрьму, чтобы затем распространить это отношение на общественный порядок в целом.
В статье Белого «Театр и современная драма» (1908) содержалась компромиссная концепция искусства как бомбы, но замедленного действия, в грядущем призванной превратить тюрьму в открытый мир:
Искусство есть временная мера: это – тактический прием в борьбе человечества с роком. Как в ликвидации классового строя нужна своего рода диктатура класса (пролетариат), так и при упразднении несуществующей, мертвой, роковой жизни нужно провозгласить знаменем жизни мертвую форму. Этим поклонением и начинается в душе художника бессознательное отрицание рока. В ту минуту, когда рок превращает вселенную только в тесную нашу тюрьму, художник отвертывается от тюрьмы, занимаясь в тюрьме какими-то праздными забавами. Эти забавы – художественное творчество. Нет, это не забавы: нет, это изготовление взрывчатых веществ. Будет день, и художник бросит свой яростный снаряд в тюремные стены рока. Стены разлетятся. Тюрьма станет миром [Белый 1994: 155].
Собственно понятие ГТ быстро вошло в обиход символистов и стало использоваться без ссылок на Фета[332]. Так, в книге Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего бога» (1904) ГТ назван мир олимпийцев, безразличный к страданиям смертных, коему противопоставлен человекоподобный бог-мученик орфической религии [Иванов 1904a: 73], а в брюсовской критической статье того же года состоянием, иноприродным ГТ, объявляется страсть, вызванная сексуальным влечением:
Любовь исследима до конца, как всякое человеческое, хотя бы и непроизвольное создание. Страсть в самой своей сущности загадка: корни ее за миром людей, вне земного, нашего. Когда страсть владеет нами, мы близко от тех вечных граней, которыми обойдена наша «голубая тюрьма», наша сферическая, плывущая во времена вселенная. Страсть – та точка, где земной шар прикасается к иным бытиям, всегда закрытая, но дверь в них[333].
(Обратим внимание на синонимы ГТ – сферическая вселенная, земной шар.) В статье 1903 г. «Символизм как миропонимание» Белый объявляет способом избавления из ГТ отказ от рассудочности, хотя бы он и привел к катастрофе (как произошло с Ницше и воздухоплавателем Лилиенталем):
Мудрость – лазейка из «голубой тюрьмы» трех измерений. Человек вырастает до мира и уже стучится к безмирному. Здесь открывается, что мысль, нагроможденная зарядом доказательств и высказанная до конца, напоминает толстую жабу. Мудреца повлечет за иными мыслями – прозревающими. Порхающих ласточек он предпочтет умным жабам. Он знает, что если ласточки и утонут в лазури, то жабы приведут его в болото. Лучше он замечтается о голубом, нежели о болотном [Белый 2012: 175–176].
В статье Блока «О лирике» (1907) понятие ГТ подверглось полемической переоценке:
Так я хочу. Если лирик потеряет этот лозунг и заменит его любым другим, – он перестанет быть лириком. Этот лозунг – его проклятие – непорочное и светлое. Вся свобода и все рабство его в этом лозунге: в нем его свободная воля, в нем же его замкнутость в стенах мира – «голубой тюрьмы». Лирика есть «я», макрокосм, и весь мир поэта лирического лежит в его способе восприятия. Это – заколдованный круг, магический. Лирик – заживо погребенный в богатой могиле, где все необходимое – пища, питье и оружие – с ним. О стены этой могилы, о зеленую землю и голубой свод небесный он бьется, как о чуждую ему стихию. Макрокосм для него чужероден. Но богато и пышно его восприятие макрокосма. В замкнутости – рабство. В пышности – свобода [Блок 1960–1963: V, 133–134].
Блок переносит акцент с идеи мировой тюрьмы на ее субъективную характеристику – производную от сознания самого узника: голубая (т. е., по Блоку, богатая, пышная). Преображенная взглядом лирика, тюрьма перестает быть сама собою. Позицию, аналогичную блоковской, занимает Белый в статье того же года «Символический театр», отдавая предпочтение иллюзорной свободе (обретаемой благодаря преображению тюрьмы) – отрицанию свободы как потенции внетюремного бытия: «…лучше на стене тюрьмы изобразить картины мира, нежели превратить тюрьму в мир, а свечу, освещающую тюремные стены, в солнце, и сказать: “Я доволен”» [Белый 2012: 236].
В постсимволистский период ГТ как поэтическая формула сменяется соответствующим мотивом, уже с допущением вариаций в определении цвета. Такова, например, темно-лазурная тюрьма в стихотворении «День» (1921) Ходасевича[334], который присутствовал при «официальном» введении понятия в обиход на лекции Брюсова о Фете 7 января 1903 г.[335] Кроме того, у Ходасевича, как и у Белого [2012: 175–176], идея ГТ растворяется в более широком контексте лирики Фета. Фетовские ласточки, летающие опасно низко над водой («Ласточки», 1884), в одноименной разработке Ходасевича (1921) взаимодействуют с противоположным пределом[336], получающим все признаки ГТ[337]:
Вон ту прозрачную, но прочную плеву
Не прободать крылом остроугольным,
Не выпорхнуть туда, за синеву,
Ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным.
3.0. Рассмотрим вероятные аспекты рецепции фетовского подтекста в поминальных стихах Мандельштама.
3.1. Привязка образа ГТ к кавказским горам, возможно, вызвала ассоциацию с мифом о Прометее, чьим местом наказания также были горы Кавказа[338]. Во всяком случае, Мандельштам использует этот топоним в последующих стихах на смерть Белого («Ему кавказские кричали горы», «Он дирижировал кавказскими горами»). В книге Белого «Ветер с Кавказа» (1928), которая в данном случае была первоочередным объектом мандельштамовской аллюзии [Гаспаров М. 2001: 792], ожидаемо всплывает и прометеевская тема:
«…в разряжениях – голубизна, к нам летящая; и – без единого облачка; справа и слева, ее обрамляя, уставились мощные массы, слагая проход. | И – мелькнуло: | – Конечно: к скале приковали они Прометея. | Он прыгал из неба на ком нежнорозовый; прыгал из неба за ним обругавшийся Зевс, угрожая трезубцем, – на ком нежнорозовый; и – Прометея схватили: в прощеле двух скал; потащили приковывать»; «А за Перевалом – обрыв <…> сюда Прометей перекинуть сумел унесенный огонь; огонь – вспыхнул, разнесся: пожарилась местность» [Белый 1928: 226–227][339].
В цикле на смерть Белого Мандельштам выводит гравировальщика – В. А. Фаворского (чья фамилия, кстати, имеет «горную» семантику), а в начале 1937 г., когда серия стихотворений пишется тем же размером, что и цикл 1934 г., в одном из них вновь звучит имя Фаворского, а в написанном неделей раньше говорится о Прометее, с которым поэт себя отождествляет [Гаспаров М. 2001: 805]. В это же время Мандельштам работает над одой Сталину, где опять-таки заходит речь о Прометее, чьим деянием – похищением огня и обучением людей искусствам – мотивируется изображение вождя-громовержца (который простил поэта-Прометея) ничем иным как углем: «Знать, Прометей разжег мой уголек». Но и сам вождь отождествляется с Прометеем в качестве культурного героя, связанного с Кавказом [Там же]. Можно допустить, что образ Прометея, в котором для Мандельштама в 1937 г. пересекаются два мотива – рисовальщика и кавказских гор, присутствовал в сознании поэта и в пору написания стихов на смерть Белого и что навеян он был прежде всего кавказским антуражем стихотворения Фета.
Впрочем, тема Прометея затрагивалась уже в самом первом обращении Мандельштама к Ан5, в стихотворении дебютного периода «О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала…» (1908). Интерпретатору этого текста
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме"
Книги похожие на "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Сошкин - Гипограмматика. Книга о Мандельштаме"
Отзывы читателей о книге "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме", комментарии и мнения людей о произведении.