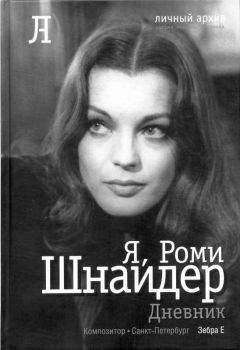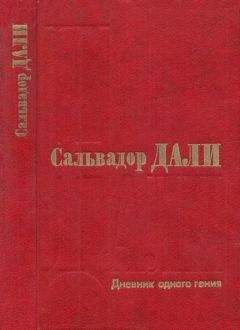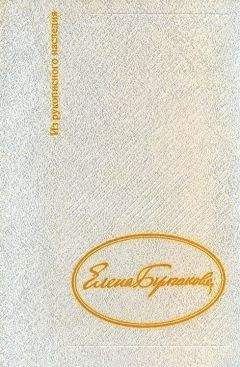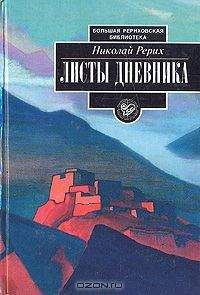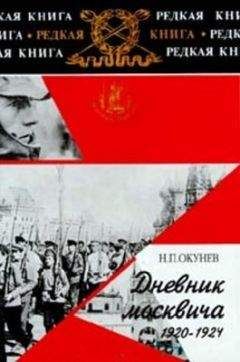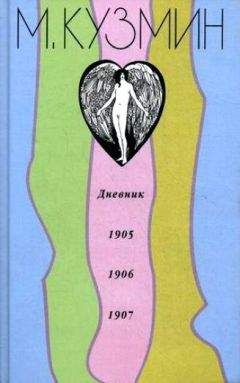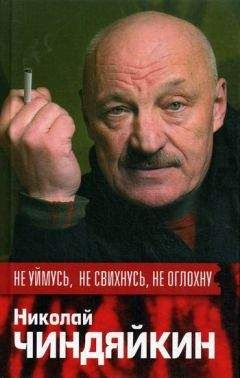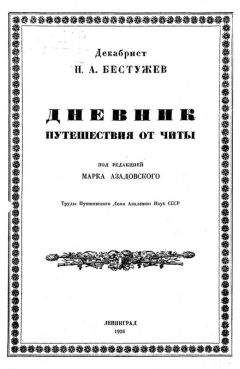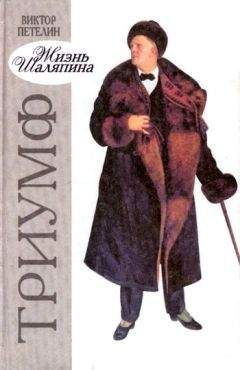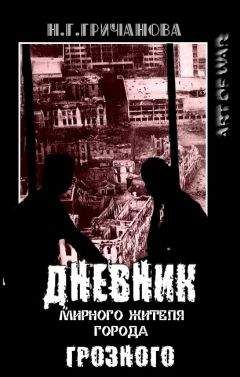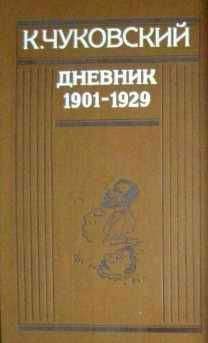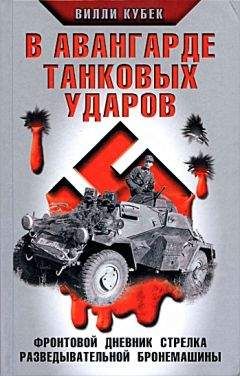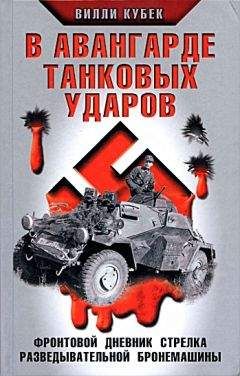Николай Шубкин - Повседневная жизнь старой русской гимназии
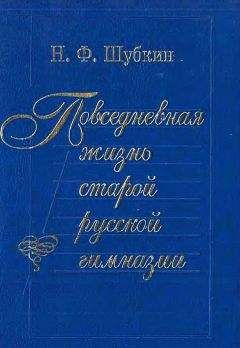
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Повседневная жизнь старой русской гимназии"
Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старой русской гимназии" читать бесплатно онлайн.
Автор публикуемого дневника — Николай Феоктистович Шубкин с 1907 по 1937 г. преподавал литературу и русский язык в гимназиях и средних школах города Барнаула. «Дневник словесника» показывает, как осознавали себя, свою деятельность, свою страну русские интеллигенты тех лет.
«Дневник словесника» любопытен и как социально-педагогический документ, рисующий как бы изнутри жизнь предреволюционной школы в заштатном сибирском городке. Публикуемые записки — подлинный документ своей эпохи. И вместе с тем это напоминание о непреходящей ценности социально-нравственных функций, исполнять которые призваны люди этой профессии, этой судьбы.
25 января
Опять полным ходом идет проверка тетрадей. Но с каждым разом все с меньшей и меньшей охотой берешься за этот труд. Вот работы V класса. Девицы еще первый год учатся у меня. В первых четырех классах они прошли уже всю грамматику и, теоретически рассуждая, должны бы к V классу быть уже грамотными, хотя бы в смысле орфографии. Не тут-то было! Большинство работ (особенно классных) вопиюще безграмотны. Изложение у многих тоже какой-то не то детский лепет, не то записки сумасшедшего. Причин этого, конечно, много и причины разные. Одни от природы не умны и малоспособны, другие слишком мало читали. Дома же на исправление этих дефектов, по обыкновению, не обращают никакого внимания. Вот малоспособная и совсем еще не развитая девочка из полуинтеллигентной семьи. Отец очень отрог и деспотичен. За плохие отметки дочери жестоко достается. И в то же время он не даст ей ничего читать, отнимая у нее единственное средство, которое могло бы ее несколько развить. Вот дочь одного из первых в городе богачей. У него есть свои заводские лошади, свои псарни, есть специальная учительница музыки для детей. Но дочь гимназистка не развита и безграмотна. И никто не подумает об этом, пока она не получит переэкзаменовку. Вот дочь одного состоятельного юриста. Семья вся интеллигентная. Но родители заняты чем угодно, но только не детьми. Девочка вот уже третью четверть получает колы и двойки, и никто не позаботится о том, чтобы направить ее. Отдали в гимназию — и с плеч долой!
А мне приходится, заливая их сочинения красными чернилами, волей-неволей ставить им то, что заслуживают эти работы: то двойку, то единицу. Требуешь, конечно, исправлений, разбираешь ошибки. Но толку от всего этого почти никакого. Тут надо не по несколько минут в неделю (при 30–40 ученицах и при трех уроках больше времени на каждую не придется), по несколько часов в день. И что же в результате? Вчера и сегодня, например, шла раздача сочинений в двух пятых классах. Ученицы волнуются, нервничают. Я стараюсь говорить как можно спокойнее, ласковее. Но баллы все-таки производят свое впечатление. Вот одна из лучших учениц в классе, умненькая С-ва, наделавшая в классной работе по рассеянности грубейших ошибок и получившая за них 2, в отчаянии закрыла лицо руками и так, в каком-то оцепенении, сидит весь урок. Вот залилась горючими слезами дочь заводчика П-ва, получившая единицу. Другая — дочь адвоката, с тем же баллом по сочинению, нервно смеется и говорит, что ей 5; но этот смех, несомненно, перед слезами. Вот встает малоспособная и неразвитая С-ва, тоже с единицей за сочинение, и просится выйти из класса. Там, в коридоре, вспомнив грозного отца, тоже, конечно, даст волю слезам. Но это еще дело обычное. Как бы она чего не устроила над собой? — мелькает у меня тревожная мысль, которая так часто приходит теперь в голову при работе с этой донельзя нервной и неуравновешенной молодежью. А тут живая как ртуть, болезненно раздражительная и невоспитанная К-ва! Ей, правда, 3. Но она и то уже в претензии. Вот она, подойдя к кафедре, сердито тычет рукой в сочинение и вступает со мной в пререкания по поводу каких-то ошибок. Немного погодя она уже горячо толкует о чем-то с подругами, стоя между парт, и вдруг в гневе топает ногой. Это, наконец, возмутило меня. «Вы совсем забыли, где находитесь, — говорю я ей повышенным тоном, — прошу выйти из класса!» К-ва сидит. Я угрожаю тогда, в случае непослушания, перенести дело в педагогический совет. К-ва подчиняется, но, уходя из класса, в утешение себе, замечает с невинным видом: «Пойти, напиться водички…» Но лишь только пробили звонок, она снова явилась в класс и, войдя в дверь, опять демонстративно топнула ногой. Я показал вид, что этой выходки не заметал. На этот раз мнение класса было, по-видимому, не на стороне К-вой. По крайней мере, в перемену она, в сопровождении лучшей ученицы класса, способной и развитой Л-ской, явилась к дверям учительской и, вызвав меня, со слезами извинилась, говоря, что топала вовсе не по моему адресу. Я немного попенял ей, сказав, что мы, учителя, ведь не топаем же на них и что топать так на кого бы то ни было недопустимо. На этом, я думаю, и окончился инцидент. По крайней мере, я не намерен давать ему дальнейшего хода, считая, что К-ва и так достаточно наказана. Карать же ее за это еще — значит только озлобить и изменить мнение класса в ее пользу.
Снова о положении учителей
27 января
Обыкновенно принято изображать в самом жалком виде положение народного учителя. Материальное положение его действительно незавидно, но и положение нас, учителей женских гимназий, принимая во внимание больший образовательный ценз, немногим лучше их. Что же касается условий работы, то в этом отношении положение народного учителя несравненно лучше, чем положение учителя средней школы. Несмотря на то что их гораздо больше но числу, они более объединены между собой, чем мы. Учительские общества (общества взаимопомощи учащих и учивших) среди них обычное явление и существуют почти в каждом городке. Для объединения же педагогического персонала средней школы нет никаких аналогичных обществ. Для народных учителей каждое лето устраиваются разные курсы и съезды. Состоялся недавно даже всероссийский съезд. Из наших же коллег могли устраивать съезды только классики да математики. О съезде же преподавателей гуманитарных наук или даже о курсах для них нет и речи. Об общих же для учителей средней школы съездах никто и не заикается. А между тем разве средняя школа — переживающая такой жесткий кризис — меньше нуждается в них? Но этого мало. Самое главное — это возможность свободной работы, возможность быть хозяином своего дела. В этом отношении опять нет никакого сравнения между учителем средней и низшей школы. Правда, и деятельность народного учителя опутана разными циркулярами. Но не в них дело. Важно то, что за десятками, а то и сотнями народных школ стоит только одно лицо — инспектор, который бывает в школе всего раз-два в год, а то и того реже. За плечами народного учителя не стоит, таким образом, неотступно «некто в синем», и в своих ежедневных занятиях с детьми он не связан с мелочным вмешательством начальства. Он до некоторой степени сам хозяин своего дела.
Совсем иное у нас. Здесь в каждой средней школе есть своя власть, одаренная большими полномочиями. И эта власть в лице директора или председателя, как у нас, держит всю «вверенную ему» школу в своем кулаке. 10–20 преподающих в этой школе педагогов — все у него на глазах. И он имеет полную возможность следить за каждым их шагом. До свободы ли и самодеятельности тут, когда на каждом шагу своей работы приходится выслушивать указания, замечания и нотации. Чтобы обезопасить себя от чересчур придирчивого отношения к своей деятельности, приходится чем-нибудь задобрить начальника, не вступать с ним в пререкания, быть почтительным, сделать в праздник визит и т.п. Всего хуже, когда начальник окажется специалистом по твоему предмету. А таков именно наш нынешний председатель Ш-ко, преподававший раньше словесность. Как из рога изобилия, сыплются теперь разные указания, замечания, реформы и прочие мероприятия — и все на мою шею! Оттого ли, что он интересуется постановкой словесности, или оттого, что хочет подсидеть меня за то, что я не пошел по его приглашению встречать к нему новый год (обидевшись, что он не отплатил мне визита), но только он то и дело стал внезапно являться ко мне на уроки словесности.
Правда, ничем предосудительным я на них не занимаюсь. Но в то же время я не намерен пускать пыль в глаза опрашиванием лучших учениц и т.п. Это обычные рабочие уроки. И, как назло, Ш-ко вот уж по два раза попадает в VII класс тогда, когда я спрашиваю слабых учениц. Те, разумеется, «плетут». И в результате председатель заметил мне сегодня с неудовольствием, что мои ученицы очень неразвиты (в прошлом «Русское знамя» как раз, наоборот, обвиняло меня в стремлении развивать учениц). Единственная панацея от этого, по мнению председателя, это введенные им рефераты, в которых на самом деле будут участвовать, конечно, только сливки гимназии. Но главный конек нынешнего председателя — это декламация стихотворений (он сам недавно издал сборник стихотворений для заучивания наизусть и теперь все время носится с ним). Сегодня, например, он выразил мне свое неудовольствие по поводу того, что в его присутствии я не спросил ни одного стихотворения. На будущее время я должен буду у каждой ученицы в его присутствии (по его требованию, даже и вообще у каждой спрашиваемой) обязательно требовать декламации какого-нибудь стихотворения. Это займет минимум 1/3 каждого урока, если даже только выслушивать их, чего, конечно, недостаточно. А между тем, дай бог, и без этих затей еле-еле кончить программу. И так уже приходится спешить, вызывая недовольство учениц и проходя некоторые произведения (например, «Ревизор») слишком бегло. Но этим дело не ограничивалось. В VIII классе, где ныне стихотворений наизусть не учили, теперь, по требованию председателя, придется заняться исключительно этим делом: учить, декламировать, повторять, потому что он велел, чтобы в каждом экзаменационном билете (весной) было вставлено по стихотворению. Опять, значит, в угоду фантазиям нового барона придется нарушить весь ход занятий. Скомкать или бросить совсем романы Л. Толстого и Достоевского и заняться заучиванием и повторением раньше заученных стишков. Говорю «стишков», а не стихов, потому что здесь тоже придется сделать своеобразный выбор. О том, что мы раньше проходили в VI классе «Размышления у парадного подъезда», «Песня Еремушки» и т. п., я не смею теперь и заикнуться. И даже, когда я упомянул о стихотворении «На смерть Пушкина», Ш-ко с неудовольствием спросил: «Неужели проходили и последние строки? Ведь это можно отнести и к нашим современникам!» Пришлось успокаивать его, что освещение этому давалось чисто историческое, без всякого сопоставления с современностью (да и действительно так!). Во всяком случае, приходится все это «мотать на ус». Но сам режиссер всего этого остается в стороне, а расхлебывать кашу приходится нам — слепым исполнителям чужой воли. Когда я объявил сегодня о заучивании стихотворений в VIII классе, ученицы стали было сами намечать материал для заучивания. Одна напомнила о «Парадном подъезде», другая пожелала выучить «В минуты унынья, о, родина мать»… из «Кому на Руси…» Пришлось положить свое veto. И из богатого хорошим, идейным материалом Некрасова, остается теперь выбирать для моих специалисток-словесниц, стоящих уже на пороге жизни, такие детские «стишки», как «Школьник», «Влас», «Несжатая полоса» и т.п. Ибо все остальное не попало в сборник нашего председателя. И с этим со всем приходится нам считаться. Попробовали бы работать при таких условиях народные учителя. Едва ли бы они позавидовали нам!
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Повседневная жизнь старой русской гимназии"
Книги похожие на "Повседневная жизнь старой русской гимназии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Шубкин - Повседневная жизнь старой русской гимназии"
Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старой русской гимназии", комментарии и мнения людей о произведении.