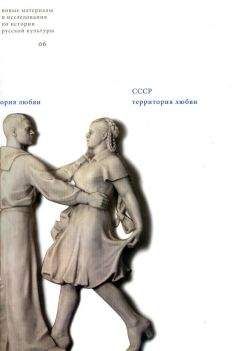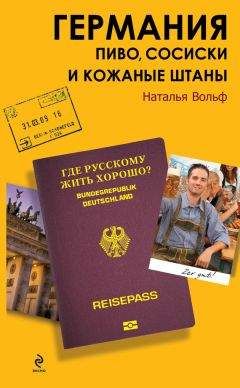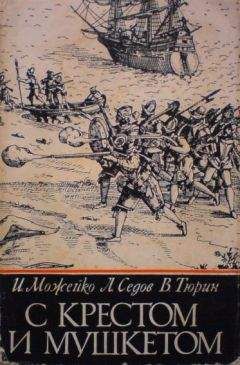Игорь Смирнов - Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015"
Описание и краткое содержание "Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015" читать бесплатно онлайн.
Подборка около 60 статей написанных с 1997 по 2015 гг
Игорь Павлович Смирнов (р. 1941) — филолог, писатель, автор многочисленных работ по истории и теории литературы, культурной антропологии, политической философии. Закончил филологический факультет ЛГУ, с 1966 по 1979 год — научный сотрудник Института русской литературы АН СССР, в 1981 году переехал в ФРГ, с 1982 года — профессор Констанцского университета (Германия). Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.
Телевидение споспешествует консьюмеризму, поскольку само потребительски подходит к культуре. Апроприируя созданное культурой, оно в концентрированной форме выражает то всестороннее самоотчуждение социума, которое, согласно Ги Дебору (1967), подхватившему традицию Франкфуртской школы, театрализует общество, делает его зрелищно-товарным — себя наблюдающим и себя потребляющим. Телеэкран стал витриной торгового дома, каковым явилась послевоенная социокультура, в которой предложение рынка поработило покупательский спрос. И вместе с тем нельзя не заметить, что телевидение и в Париже 1968 года и в Киеве 2005 года вовсе не было безропотным исполнителем воли тех, кто ворочал рычагами власти. В обоих названных случаях и в ряде иных тележурналистика дала волнующимся массам голос и популяризировала их зримый образ. Есть ли здесь противоречие? Способно ли полое медиальное тело вообще быть внутренне противоречивым? Ханс Магнус Энценсбергер опубликовал вскоре после революции 1968 года несколько тезисов, в соответствии с которыми все без исключения медиальные средства не невинны, манипулятивны (в своей орудийной функции) и потому могут быть использованы как для поддержания социальной рутины, так и в подрывных целях — по желанию либо хозяев жизни, либо восстающих против них (Hans Magnus Enzensberger, Baukasten zu einer Theorie der Medien, 1970). Телевидение, возразил на это Жан Бодрийар, знаменует собой конец коммуникативного обмена, отчего вовсе не приходится говорить о том, поддается ли оно такому рефункционализированию, которое ставит его на службу справедливо организованному обществу (Jean Baudrillard, Requiem pour les media, 1972), долженствующему сложиться, по Энценсбергеру, из субверсивных действий. Как мне кажется, Энценсбергер был не прав в том, что лишал media, в том числе, если не в первую очередь, телевидение, свободы принимать собственные решения. Но и с Бодрийаром трудно согласиться. Телезрители, конечно же, прежде всего пациенсы поставляемой им информации. Но ведь ничто не мешает им затеять о ней диалог между собой. Cамый бодрийаровский текст, реплика в споре о телевидении, опровергает высказанную в нем идею. Все дело в том, что революционное брожение точно так же отчуждает общество от самого себя, как и безудержное потребление порождаемых им духовных и материальных ценностей. В поздних текстах Макс Вебер писал о “революционном карнавале” — об ином, чем у Дебора, и тем не менее все том же “обществе спектакля”. Бунтарский порыв Дебора — изнанка консьюмеризма. Телевидение готово солидаризоваться и с одним, и с другим самоотчуждением и в этом смысле обладает свободой выбора. Более того, телевидение, присваивающее себе производимое культурой, есть место власти — не какой-либо определенной, но как таковой. Ибо власть является из апроприирования, из захвата чужой индивидуальной и коллективной собственности (что понял Юм), из изъятия у субъектов самовластия. Из телестудии можно удерживать общество в его рамках и перекраивать его, потому что оттуда же совершается контроль над самым ценным, что оно имеет, — над его культурой, отсеиваемой и рассеиваемой. Власть противоречит принципу социокультурной экономии — телевидение в том числе.
Я еще вернусь к TV, а пока скажу несколько слов о WWW — к сожалению, скороговоркой. Интернет поглощает телевидение, переведенное с аналоговой основы на дигитальную, и, вероятно, будет продолжать и совершенствовать эту экспансионистскую стратегию. На каждом этапе своего развития новорожденная видеомедиальность интегрирует в себе предшествующую. Звуковое кино включило в себя немое хотя бы потому уже, что передает не только речь, но и молчание (о чем кинотеоретики писали уже в 1930-е годы и о чем они рассуждают и по сию пору; ср. особенно: Joachim Paech, Zwischen Reden und Schweigen — die Schrift // Text und Ton im Film, hrsg. von P. Goetsch, D. Schennemann, Tubingen 1997, 47–68). В свою очередь, звуковой фильм оказался в составе тех медиальных средств, которыми принялось распоряжаться телевидение. Эксплуатация киноискусства телевидением зашла в наши дни столь далеко, что с появлением видеомагнитофонов и DVD-players западные кинозалы опустели. Каждая видеомедиальная инновация апроприирует ту, что была предпринята в прошлом, утверждая тем самым свою власть во времени (и над ним). Что касается Интернета, то он, инкорпорировав телепрограммы, апроприировал самое апроприирование и в результате обезвластил власть медиальности над социокультурой, достигшую было своего максимума на экранах, которые стали неотъемлемой принадлежностью едва ли не любого домоводства. Хакеры, проникающие в тайны банков и генеральных штабов, ставят под сомнение мощь капитала и государства.
Одно из двух главных свойств электронной сети в том, что власть в ней рассредоточена между воистину всеми, кто имеет доступ в Интернет. Поисковая машина Google предоставляет клиентам возможность господствовать над электронной энциклопедией по собственному усмотрению каждого из них. Но, кроме этой потребительской власти над cyberspace, есть еще и творческая. Мы в состоянии не только изымать из Интернета нужную нам информацию, но и выставлять там напоказ себя и продукты нашей деятельности (“документы”). Что из того, что, свободно перестраивая, инсценируя наши идентичности для экспонирования на homepage, мы не избавляемся от зависимости от наших реальных тел, как на то сетовал Бодрийар, не принявший не только телевидение, но и электронную сеть (Jean Baudrillard, Aesthetic Illusion and Virtual Reality // Jean Baudrillard, Art and Artefact, ed. by N. Zurbrugg, London e.a. 1997, 19–27). Начиная с архаических ритуальных практик человек всегда не довольствовался своими биофизическими данными. Ныне он выражает протест против своей природной соматики в Интернете, где он, ускользнув от телевизионного насилия, вновь наслаждается самовластием. В Интернете нет героев-идолов, как в фильмах и на телевидении. Selfmade-(wo)man сетевой эры находит себе соответствие в гипертексте, субтексты которого имеют самостоятельную ценность (“lingking value”), о чем писалось (см., например: Jay D. Bolter, Das Internet in der Geschichte der Technologien des Schreibens, ubers. von S. Munker // Mythos Internet, hrsg. von S. Munker, A. Roesler, Frankfurt am Main 1997, 37–55).
Второе определяющее Интернет качество заключено в произведенном им уравнивании аудиовизуальности и письменного слова. Книга, с которой на свой лад конкурировали как немое и звуковое кино, так и телевидение, более не ведет в электронном издании борьбы за существование. Затеянный Деррида спор о том, как адекватнее выражает себя человек, изустно или на письме, теряет всякий смысл в cyberspace. Логосфера (сразу и как скрипт, и как оральная коммуникация) вступает в партнерство с изобразительностью. Примирение медиальных средств, которому дало старт телевидение, доводится до полноты в электронной сети за счет того, что в пакт о ненападении втягивается и письмо. Это событие означает — ни много ни мало — завершение протяженного исторического отрезка, на котором в нашем коммуникативном обиходе возобладала картинность, как это часто констатировалось среди прочих и Хайдеггером: “Картина мира, понятая в своей сущности, подразумевает <…> не какой-то зримый образ мира, но мир как зримый образ” (Martin Heidegger, Die Zeit des Weltbildes (1938) // Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Bd. 5, Holzwege, Frankfurt am Main, 1977, 89). Наглядное не может стать само по себе (в материальности своей созерцаемости) имущественным владением сознания (чем, собственно, объясняются головокружительные цены на живопись, которые взвинчивают коллекционеры, дабы стать ее юридическими собственниками). Изображение замещает действительность так, что та делается для субъекта неинтериоризуемой. Чтобы умственно завладеть картинностью, нужен посредник — одновременно и зримый, и принадлежащий сознанию. Таковым является письменное слово[1]. В мире Интернета, где оно в силе, всё переводимо во всё, в отличие от мира на телеэкране. Электронная сеть способна восстановить качественную целостность культуры, низведенную телевидением до количественной, пусть Интернет еще и не дорос до решения такой задачи. Интернет не нуждается в самоотчуждении общества — ни в консьюмеристском, ни в революционном. Он предлагает индивиду иносоциальность, о которой анархизм мог только мечтать, общество без власти — государственной ли, антигосударственной ли, пространство для сотрудничества независимых личностей. Но у этой электронной территории есть еще одно название — refugium, ибо оно прибежище эмигрантов из реального социума. Ни в каком медиауниверсуме нельзя достичь совершенства, или, говоря на несколько обветшавшем жаргоне кибернетики, передачи информации без возникновения шума в канале, по которому она течет.
Есть ли альтернатива у телекультуры?
Исторически обрамив телевидение киноискусством, с одной стороны, и Интернетом — с другой, можно взяться теперь за ту проблему, из которой вызрела моя статья. Почему мы очутились в культурных “руинах”, как выражается Норберт Больц (Norbert Bolz, Einleitung. Die Moderne als Ruine // Ruinen des Denkens. Denken in Ruinen, hrsg. von N. Bolz, W. van Reijn, Frankfurt am Main 1996, 7—23)? Ответственность за этот крах несет телевидение, сдавшее свою выдвинутую позицию под натиском Интернета. Мы плохо представляем себе, сколь безраздельно оно доминировало над послевоенным сознанием. Не будь телевидения, разве стало бы изобразительное искусство окружать нас инсталляциями, подобными нашим жилищам, где мы превратились в вуайеров не по нашей воле (впрочем, охотно пускающейся на извращения). И что иное, как не телереклама, захватившая в коллективном восприятии место тоталитарной наглядной пропаганды, сделала pop-art желанным стилем для широкой публики? Не будет преувеличением сказать, что не только изобразительная, но и вся культура раннего постмодернизма с ее наскучившими догмами попала под диктат телевидения. Dejб vu? — как тут не учесть, что телевидение вторично актуализует то, что может быть увидено на театральных подмостках и в кинозалах. Симулякр? — да ведь именно оно поставляет нам копии, функционирующие вместо оригиналов. Абсолютизация памяти в ущерб творческому порыву? — могла бы она совершиться, если бы ее не санкционировали сотрудники телеархивов? Diffеrance? — придумав этот неологизм, Деррида выключил телевизор, отложив просмотр возвращающихся к нам передач на завтра. Человек как паразит вселенной? — Мишель Серр сказал то, что телевизионщикам мешает произнести отсутствие у них (как и у любой власти) авторефлексии. Смерть автора? — где ей и происходить, кроме пространства, в котором культура подвергается ретранслированию. Демократия держит место власти пустым? — Жижек перенес свой опыт телезрителя на якобинский террор. Кстати, название книги, где была изложена эта идея (Slavoj Zizek, Grimassen des Realen, ubers. von I. Charim e.a., Koln 1993, 130–137), заимствовано из телеинтервью, данного Лаканном (= “grimace du rеel”). Медиальность, содержание которой телевидение остранило, взяв на себя задание лишь знакомить с ней публику, стала в постмодернизме предметом исследования, которое с пионерской неосторожностью возглавил Маклюэн.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015"
Книги похожие на "Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Смирнов - Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015"
Отзывы читателей о книге "Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015", комментарии и мнения людей о произведении.