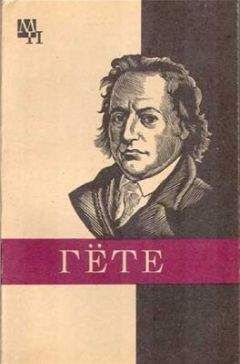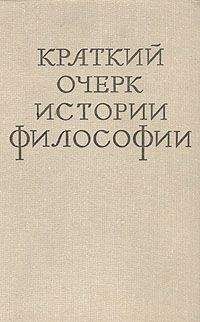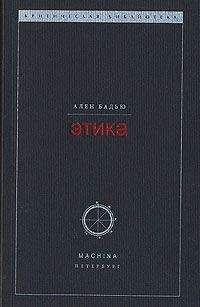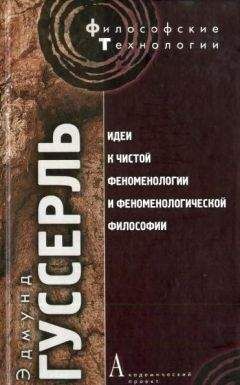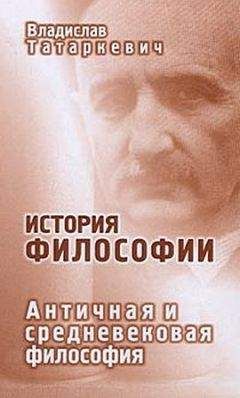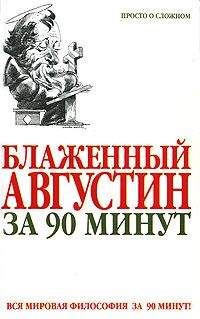Карен Свасьян - Очерк философии в самоизложении
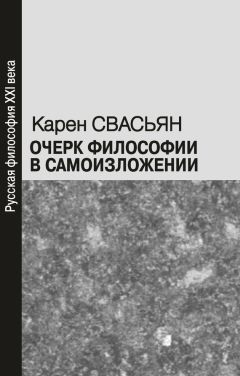
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Очерк философии в самоизложении"
Описание и краткое содержание "Очерк философии в самоизложении" читать бесплатно онлайн.
Настоящая книга представляет собой попытку философской биографии – в линии известной немецкой традиции «Philosophie in Selbstdarstellung». Можно говорить о биографии сознания, которая не умещается в десятилетиях физически прожитого и расширяется до тысячелетий мысленно пережитого. Понятая так жизнь протекает уже не в природе, а в сознании как мысль, которая проживается в истории философии и является не менее (если не более) биографичной, чем случайности чисто биологического существования.
Отступление: Готфрид Бенн vs. Аристотель II
Подлог, разумеется, оставался незамеченным. В понятийно размытой соположенности естественного человека и общественного гражданина человек в своём специфически человеческом (мышление, Я-сознание) был без остатка обобществлён, после чего естественное в нём, если о таковом можно было вообще ещё говорить, автоматически совпадало с животным. Вопрос в другом. Если человек и гражданин неразличимы юридически и политически, то как это выглядит в проекции познания? Сводить человека к «социальной конструкции» значит объяснять его специфически человеческую сущность (= мышление, индивидуальность, Я) общественными отношениями. Само мышление оказывается здесь социальной конструкцией, притом что ловкие и самоуверенные конструкторы не замечают, что очутились в логической западне circulus in demonstrando. Мышление не может быть социальной конструкцией, потому что сама «социальная конструкция» есть уже продукт мышления. Понятно, что обе опции – человек и гражданин – даны в единстве, но понятно и то, что единство не означает ещё идентичности. Из единства организма никак не вытекает ещё идентичность составляющих его органов. Речь идёт о некоем головоломно сложно организованном существе, откликающемся на оба обозначения и не способном, как правило, отличить одно от другого. Но ведь очевидно, что отличить их может тот, кто видит их и понимает их в их целом. Социологи и юристы по-своему правы, как по-своему правы же и их теологические или биологические коллеги. В конце концов, «по-своему» правы все, даже те, кто не прав, но это, пожалуй, годится, скорее, в анекдот, чем в действительность. В аспекте познания правота и неправота определяются не отдельными мнениями и позициями, а их целым. Иными словами, познание – это когда не «по-моему» и «по-твоему», а «по-целому». Целое же человека, если брать его не в объёме эволюции, а с точки зрения социального, различается и исчерпывается в троякой данности аспектов: хозяйственного, правового (политического) и духовного.[66] Эти три начала, образующих социальное целое, следует различать на самый строгий лад. Первофеномен хозяйственного: соотнесённость с внешним миром в перспективе его материального освоения (принцип братства). Первофеномен правового: соотнесённость с другими людьми в перспективе совместного существования (принцип равенства). И наконец, первофеномен духовного: соотнесённость с самим собой в перспективе индивидуального становления (принцип свободы). Все три данности суть организм, что значит: они настолько же связаны между собой органически, насколько органически же они независимы друг от друга. Их взаимосвязь и взаимодействие обусловлены единым целым, но не иначе, как при строжайшем соблюдении текучих приоритетов. Каждая значима в рамках собственной компетенции и лишь постольку способствует целому, поскольку решает свои собственные задачи, не навязывая себя другим для решения их задач. Говоря по аналогии: аккомпанемент не должен быть громче солирующего инструмента. В свою очередь, и солирующий инструмент солирует не всё время, а вливается, когда нужно, в аккомпанемент, уступая место другому инструменту, до этого аккомпанирующему ему. Братство – принцип и первофеномен хозяйственного. Это значит: в строгих пределах хозяйственного нет и не может быть места ни равенству, ни свободе. Экономическая жизнь строится и функционирует по модели не ринга или беговой дорожки на ипподроме, а в диаметральной противоположности всякому эгоизму, отравляющему её так называемым свободным предпринимательством, или вгрызшимся в русский язык, как в горло, словом «бизнес».[67] Параллельно: принцип и первофеномен правового – равенство. Говорить здесь о братстве или свободе может только тот, кто не понимает, о чём он говорит, либо говорит о том, чего не понимает. Люди равны не сами по себе и перед собой, а исключительно только перед законом. В этом, и только в этом, заключен момент гражданства, бюргерства. И, наконец, третье: принцип и первофеномен духовной жизни – свобода (но никак не братство, того менее равенство). Это, если угодно, правота и правомерность эгоизма (не морально, а метафизически понятого): уход из царства всеобщности и общеобязательности, любого рода совместностей и общительностей в замкнутого, сосредоточенного, одинокого себя. Не в того «себя», в котором умники-социологи, взошедшие на психоаналитических дрожжах, разоблачают замаскированное социальное, а в того, которого они не видят, даже когда смотрят на него в упор. – Ещё раз: было бы абсурдно представлять себе названные принципы не органически, а механически. Особенность их автономии в том, что они зависят друг от друга, но так, что ни один не может подчинить себе другого, без того чтобы не нарушить целое, а значит и себя. По существу, речь идёт о как бы вывернутом наружу человеческом физиологическом организме, аналогом которого является социальный организм. Решение социального вопроса возможно только при условии, что бессознательно протекающие жизненные процессы триединого человеческого организма сознательно воспроизводятся в общественных отношениях. На этой трёхчленности социального организма только и можно различить собственно человеческое и гражданское и понять, что гражданин, бюргер в нас – это треть нашего человеческого целого. Если в хозяйственном аспекте человеческое всё ещё ограничено кругом чисто животных (в смысле жизненной необходимости) нужд и потребностей, удовлетворением которых и исчерпываются его возможности, если, дальше, в правовом аспекте человеческое (всё ещё животное, слишком животное) не выходит за рамки гражданских конвенций и необходимости их соблюдения, чтобы избежать гоббсовскую войну всех против всех, то именно в духовном аспекте оно впервые проявляется в знаке абсолютной самоадекватности. Сведение духовного к социальному и есть САТАНИЗМ в прямом религиозном смысле слова: отрицание эволюции человека путём подмены становящегося ставшим и перенесения ставшего в будущее. Социальный человек, или zoon politikon, как греческий промах и балканщина, – contradictio in adjecto, искусственная природа, неестественное естество, которое, с одной стороны, остаётся природой (= животным), а с другой, борется с животным в себе и приручает его. Иначе: он выступает один раз в своём ставшем, которое он идентифицирует с природным (понимая под природным животное), а другой раз в своём становящемся, о котором он хоть и знает, что оно есть, но не знает, что́ именно. Здесь и коренится разница между человеком и бюргером, которых Запад прежде не хотел, а сейчас просто неспособен различать. Человеческое в человеке (сознание, Я) безостаточно растворяется в гражданском и социальном. Что такое бюргер, об этом решает jus civile. Напротив, человек находится всё ещё в компетенции jus naturale. В парадигме Нового времени человеческое в чистом виде совпадает с животным, и если мы не видим этого, то только потому, что мы подменяем свою человечность своей гражданственностью, оказываясь в итоге более или менее удачно дрессированными двуногими в цирке социальных условностей. Нужно было просто смешать оба аспекта, чтобы получить универсальную отмычку к камере хранения «человек». При этом даже не заметив анекдотичности случившегося. Олимп де Гуж, мужественная протофеминистка, этакая Симона де Бовуар эпохи бесштанников и Террора, ещё в 1791 году указала на то, что объявленные в Декларации 1789 года права человека и гражданина несправедливым образом относятся не к человеку (homme), а к мужчине (homme). Гений французского языка сыграл злую шутку над адвокатами и людоедами гуманности. Предложение мужественной феминистки заменить человекомужчину (homme) просто женщиной (femme) в новом предложенном ею проекте Декларации не было принято всерьёз. Потребовалось немало времени, прежде чем передовые умы додумались наконец упразднить досадную биологическую двуполость единым гендерным всечеловеком, то есть перенести пол из непосредственной природной данности в разряд социальной конструкции.
Отступление: Готфрид Бенн vs. Аристотель III
Устранение «греческого промаха», без всяких сомнений и оговорок, может быть названо САМОЙ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ современности. «Завтра», как говорил один авторитетный практик, «будет поздно». При этом нельзя исключить, что «завтра» осталось во «вчера», и что нас уже просто и решительно нет, хотя, ампутированные, мы всё ещё выдаём за себя собственные фантомные движения. Вопрос даже не столько в том, что греческие отцы-основатели нашей духовности завели нас в тупик люциферических иллюзорностей, сколько в том, что мы даже не заметили тупика. Юлиус Шварц, непревзойдённый и по сей день знаток греческого политического дискурса, замечает в своём монументальном труде «Афинская демократия» (1882):[68] «Ничто не дает нам оснований и впредь потворствовать тому традиционному идеализму, который объявляет жизнь эллинов не имеющей себе равных по части возвышенного, но который едва ли способен черпать свои представления откуда-либо ещё, кроме как из сладострастных душевных терзаний собственной предвзятой односторонности, чтобы не сказать прямо, невежества.» Если эта бомба замедленного действия, латентно пролежавшая в веках, взорвалась с началом Нового времени у Гоббса, Локка, Руссо, то её взрывная волна в диких темпах распространяется уже со второй половины XIX столетия под именем МАРКСИЗМ. С Марксом повторилась та же история, что и с Платоном: оба выдающихся первопроходца теизма (один под маркой идеализма, другой материализма) оказались вытеснены собственными «измами»; нет сомнения, что и Платон, доведись ему увидеть себя в зеркале его христианских и прочих эпигонов, сказал бы о себе: «Я не платоник», совсем как Маркс, успевший-таки сказать ещё при жизни: «Я не марксист». Всё это, впрочем, личные проблемы обоих и не имеет никакого отношения к сути дела. Суть дела – дела обоих, а не вздохи и разочарования; верные марксисты могут всё ещё с пеной у рта продолжать доказывать, что Ленин исказил Маркса, на что верные ленинцы не устанут отвечать, что он не исказил, а творчески развил Маркса, причём правы будут и те и другие, хотя ленинцы, несомненно, будут правее. Марксизм – карма Маркса, настигающая его извне как бумеранг, при всём неумении его и его верных личард понять, что бумеранг, скажем, большевистского террора в России или более позднего по времени свального греха в студенческих коммунах Запада и есть он сам: не искажённый, а именно творчески продолженный. Заблуждение верных марксистов (как и верных платоников) в том, что они реабилитируют своего идола, аппелируя к частностям и деталям, а не к общему, – о нём-де судят по тому и тому из сказанного им, а между тем говорил он не только то, но и это, и т. д. Это копание в деталях нисколько не проясняет сути дела, а напротив, лишь дальше уводит от неё. Дьявол марксизма торчит не в деталях, а в общем, которое есть ОБЩЕСТВЕННОЕ, и понять Маркса значит не застревать в деталях, а подводить детали во всём их множестве и различии под лупу общего (= общественного). Общее – об этом уже была выше речь – подмена человека бюргером, сведение индивидуального к общественному, потому что сущность человека, как сказал Маркс, не абстракция, а «совокупность общественных отношений». Это Гегель, переставленный со своей гегелевской головы сначала на свою фейербаховскую, а потом уже и на свою марксову голову. Абсолютный дух осознаёт себя сначала как сущность человека, а последнюю уже потом как мир общественных отношений. Можно говорить о гениально разыгранном «театре одного Платона», в котором старый грек настолько убедительно играет Маркса, что, похоже, готов поверить в это сам. Общее марксизма, «балканщина», есть абсолютная социологизация, включая социологизацию абсолютного, причём не имеет никакого значения, считают ли себя сами фанатики и шахиды социального марксистами или антимарксистами. Марксизмом (как и в случае платонизма) пропитаны не только наши мысли, но и наши ощущения: не только представления человека о себе, что он представляет собой «общественное животное», в гремучей смеси животного и социального, но и ощущение им себя как «общественного животного». В устранении этого вируса, как сказано, возможность нашего будущего, потому что нет и не может быть никакого будущего там, где человеком называется мешанина животных потребностей и гражданских прав. ДЕСОЦИОЛОГИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ – под таким знаком мог бы осуществиться прорыв в будущее, которого нет, но которое будет только как сам прорыв и после самого прорыва, а, значит, вследствие его. Здесь – ещё раз – надлежит со всей остротой и основательностью осознать абсолютность мышления, за которым и над которым не может быть ничего, потому что, будь за мышлением и над мышлением что-то, это что-то было бы не чем иным, как мыслью. Разумеется, из сказанного никак не следует отрицание социальной обусловленности мышления со всеми её контекстами и конъюнктурами; речь идёт о том, насколько мы способны, не отрицая её, понимать её производность и вторичность. Техника обоих дьяволов срабатывает и здесь, когда один доводит одну крайность до крайности, после чего уступает место другому, который успешно доводит до крайности крайность другую. Потребовалось более двух тысячелетий носиться с «вечными истинами», культивируя их до дальше некуда, чтобы в конце концов вызвать к ним устойчивую анекдотическую аллергию параллельно с таким же устойчивым и анекдотическим интересом к «фактическим истинам». Особенно изощрённым моментом названной техники является то, что переход от одной крайности к другой сопровождается безоговорочным отрицанием одной и столь же безоговорочным утверждением другой, то есть меняются, по сути, метки и знаки, а одурачивание, при полной сохранности содержания, продолжается дальше. Десоциологизация мышления отрицает не социальность мышления, а абсолютизацию социального, которое выставляется как единственно определяющее, в то время как оно лишь один из обоих полюсов определяемого, именно: социального и антисоциального. Корень заблуждения, повторим, в неумении отличать полагающее (определяющее) мышление от мышления положенного (определенного); последнее возможно в связке cogitatio-cogitatum, где cogitatum, как мыслимое, именно противостоит cogitatio, как мысли. Определяющее мышление охватывает оба полюса и полагает их, после чего и появляется возможность различения. Мышление исторично, социально, контекстуально, конъюнктурно как уже-положенное. Как полагающее, оно не может быть не чем иным, как абсолютным. На абсолютном логика сворачивается в змею и кусает себя за хвост, потому что, отрицая абсолютное, она лишь утверждает его самим отрицанием, и равным образом, сводя мышление к чему-то, она лишь тем сильнее подчёркивает его несводимость указанием на то, что само сведе́ние имеет место и возможно не иначе, как в мышлении. В конце концов, десоциологизация мышления – это понимание мышления в четырехступенчатом процессе свёртывания и самоуплотнения. Нужно различать a) само мышление от b) мыслей, c) понятий, d) слов. Неверно, в принципе, уже само слово «мышление», потому что в действительности дело идёт не о существительном, а о глаголе. Мышление значит мыслить, что адекватнее всего выражает немецкий язык, в котором существительное «мышление» (das Denken) и есть глагол «мыслить» (denken) с приставленным к нему определённым артиклем среднего рода. Как существительное, мышление – это просто абстрактное обозначение, денотат которого совпадает со всем, что свершается, происходит (das Geschehen schlechthin). Если позволительно сравнить мышление с кровью, то мысли можно было бы, по аналогии с показателями крови, назвать показателями мышления. Мысли суть феномены (= явления) мышления, через которые последнее из состояния субсистенции (в-себе-существования) переходит в состояние экзистенции. Экзистенциальность мышления – его расщепленность на собственно мышление и восприятие. Мысли суть мышление (мыслительные силы) в аспекте восприятий, или вещей, которые, как воспринятые, суть вопросительные знаки, а как помысленные, сущность. Для наивного сознания они, как чувственные восприятия, объективны, а как мысли субъективны. При этом не видят, что мысли не могут быть ни субъективными, ни объективными, потому что как субъективное, так и объективное, сами суть уже мысли. Поэтому, мысли – это не мысли о вещах, а сами вещи (само вещей), сведённые к их необходимому и существенному. Но, как просто помысленные, мысли хотят быть и сказанными. Аналогично показателям крови, которые, как таковые, следует отличать от их обозначений в так называемой гемограмме, показатели мышления, как чистые мысли, также следует отличать от их артикулированной, языковой формы. Когда мысли выражены, они являются как понятия. Понятия суть мысли в ракурсе сказанного. Их матрица дана в категориях Аристотеля, схемах высказывания сущего. Разница между понятиями и мыслями заключается, прежде всего, в том, что мысли обнаруживают вещи в аспекте сущего, а понятия в аспекте словесного. Мысли, как понятия, знаменуют переход онтологического в филологическое, что имеет следствием пробуждение философского сознания. В понятиях сущее, которое ка к мышление есть сущность, а как мысль обнаружение (откровение) сущности, становится действующим. Действующее значит действенное в двойном смысле драмы и кармы. (Драма, по-гречески, совпадает с кармой, по-санскритски; на деле, одна является следствием другой.) Преобразование мыслей в понятия есть исходный пункт и начало истории философии, которая оттого и может быть обозначена как драма, или карма, мыслей, что мысли здесь впервые потенцируются до возможности заблуждения. Верхний предел и оптимум заблуждения, заключающийся в отрезании мысли от пуповины космического первосостояния и в обособлении человеческого, заостряется в языке и называется номинализм. Номинализм с необходимостью возникает там, где понятия, которые суть сказанные мысли, теряют связь с мыслями и теряются в словах. Пустых словах, о которых Гёте написал однажды, что больше всего в жизни страшился их.[69] Следующий пассаж из одной лекции Рудольфа Штейнера[70] резюмирует случай: «Бо́льшая часть того, что в обычной жизни называют мышлением, протекает в словах. Мыслят в словах. Гораздо больше, чем принято думать, мыслят в словах. И многие люди, требующие объяснения того или иного, довольствуются тем, что им говорится какое-то слово, имеющее знакомое им звучание, напоминающее им то или иное, и тогда то, что ощущается ими при этом слове, они считают объяснением и полагают, что это и есть мысли.» Характерно в таких словах не столько то, что они пусты, сколько то, что они имитируют мышление. Образцовыми в этом отношении остаются так называемые интеллектуалы («интеллектуальи», как их называл Евгений Дюринг), жонглирующие учёными termini technici с не меньшей ловкостью, чем жонглер ножами. Дело, впрочем, не кончается на имитировании. Имитирование неизбежным образом переходит в конструирование. Вещи не мыслятся и не познаются, а конструируются, что значит: их называют не так, как они есть, а они есть то, как их называют. Можно, к примеру, назвать первого попавшегося прохвоста демократом, а другого популистом, то есть обозначить того и другого одним и тем же словом, только на разных языках, после чего один («свой») будет демократом, а другой («чужой»), соответственно, популистом. Или «чужой» будет шпионом, а «свой» разведчиком. Это фокусничество, возведенное в ранг онтологии и креационизма. Поскольку практикующие его интеллектуалы (философы, социологи, политологи, политтехнологи, блоггеры, бандерлоги, телеведущие, журналисты, позиционеры и оппозиционеры, гламурные и цифровые гендерши и бандерши и прочая, прочая) просто-напросто и попросту НЕПОБЕДИМО ГЛУПЫ, нет никаких оснований сомневаться в том, что последней их конструкцией окажется сук, на который они усадят вместе с собой всех себе подобных и который станут пилить с таким болотно-майданным остервенением, пока не провалятся в яму и ночь.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Очерк философии в самоизложении"
Книги похожие на "Очерк философии в самоизложении" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Карен Свасьян - Очерк философии в самоизложении"
Отзывы читателей о книге "Очерк философии в самоизложении", комментарии и мнения людей о произведении.