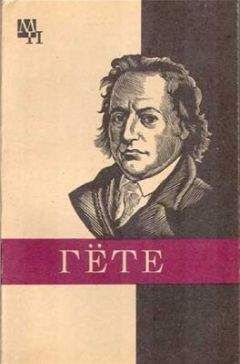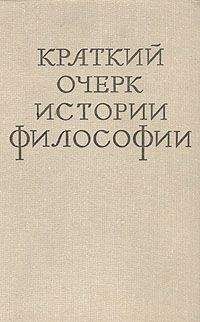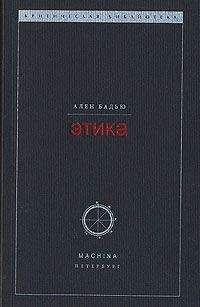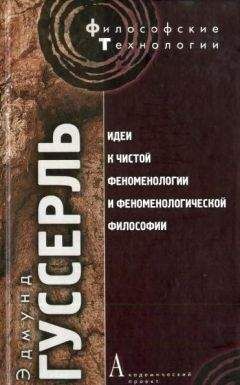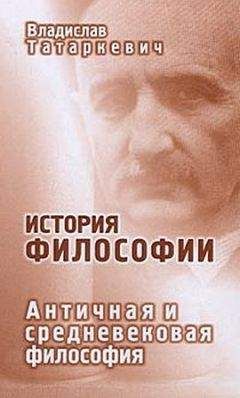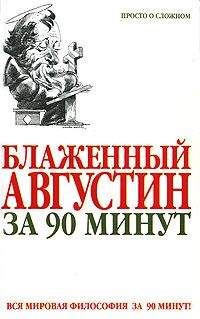Карен Свасьян - Очерк философии в самоизложении
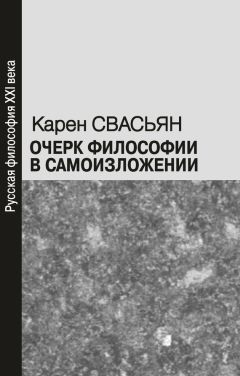
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Очерк философии в самоизложении"
Описание и краткое содержание "Очерк философии в самоизложении" читать бесплатно онлайн.
Настоящая книга представляет собой попытку философской биографии – в линии известной немецкой традиции «Philosophie in Selbstdarstellung». Можно говорить о биографии сознания, которая не умещается в десятилетиях физически прожитого и расширяется до тысячелетий мысленно пережитого. Понятая так жизнь протекает уже не в природе, а в сознании как мысль, которая проживается в истории философии и является не менее (если не более) биографичной, чем случайности чисто биологического существования.
Отступление: Theologia heterodoxa III
Историю христианства понимают адекватно, когда воспринимают её как затянувшийся на два тысячелетия Гефсиманский сад и сон. Это история проспанного смысла: сновидение на тему пробуждения, в котором спящий перманентно пробуждается, даже не подозревая о том, что делает это во сне. Но это и есть история проспанной мысли: некоего чудовищного диссонанса между дотянувшимся до Голгофы чувством и замаринованной в платонизме мыслью. Что христианам всегда было свойственно, так это чувствовать своего Бога – при просто фатальном неумении его мыслить. Христианство и удалось в чувстве: в подвиге, молитве, слёзном даре, смирении. Его пятой колонной стала греко-иудео-арабская мысль: буквенная вязь сочинений Философа в опрокинутой – справа налево – перспективе письма. Августин, этот фатальный двуязычник, застрявший в христианской эйфории чувств, а головой упёршийся в занебесные топосы, обратил-таки христианского Бога в платонизм, после чего рокировка мировоззренческих гегемонов, теизма и атеизма, оказывалась неизбежной и неотвратимой. Когда Штейнер в дорнахских лекциях 1920 года о философии Фомы Аквинского[35] вспоминает его предсмертное завещание: «Как сделать мышление христианским?», это воспринимается как двойной шок: один раз, потому что «вспоминает», другой раз, по самому содержанию предсмертной воли. Что же это, если не скандал, когда величайший христианский философ призывает обратить в христианство мысль, причём на исходе XIII христианского столетия, из чего можно заключить, что мысль всё это время была чем и какой угодно, но только не христианской! Говорят же о христианской музыке или христианской живописи, но никак не о христианской физике или математике. Христианской была именно вера; знание – дьявольское, по определению – не могло быть не чем иным, как до– и уже антихристианским. В гениальной формуле Ницше: христианство – платонизм для народа, схвачена сама суть случившегося: учение об идеях не надо было больше осиливать в мысли; достаточно было просто сводить его к чувствам и обильно орошать слезами. Никто не продемонстрировал reductio ad absurdum религиозного чувства сильнее и страшнее, чем Достоевский: в главе «Бунт» и легенде об инквизиторе. Эта астральная буря вокруг слезинки ребёнка с последующим неприятием мира и возвращением билета – апофеоз безмыслия; надо быть поистине праведником, флагеллантом или идиотом, чтобы, застряв по горло в чувствах и воспринимая мир сквозь чувства, продолжать славословить Бога, вместо того чтобы натравить на него псов атеизма. Мы на последней черте того, до чего может дочувствоваться чистый и честный христианин в альтернативе выбора: либо замереть в блаженстве и святости, либо возвратить билет Богу. Характерно, что француз и католик Леон Блуа, младший современник Достоевского, обезумевший на этом чувстве («Христианство, если от него что-то осталось, так это только эскалация глупости или низости. Иисуса Христа даже не продают уже, его сбывают за бесценок»[36]), пытается хоть как-то осилить его в мысли. Такова его реплика на фразу де Местра, что Наполеон и связанные с ним несчастья суть наказание Божье за Французскую революцию: «Он не увидел и не понял, что Бог не мстит нам, а просто нас покинул.»[37] Это формула эйдетически редуцированного отчаяния, в которое, как в потолок, упирается католическая адекватность, – в отличие от Достоевского, бьющегося головой о тот же потолок, но всегда амортизирующего силу удара старцами. Старцы у Достоевского (и от Достоевского во всей русской религиозной философии) – это экзистенциальный, персонифицированный аналог онтологического аргумента, argumentum ad hominem sanctum, как последний, а на деле единственный довод в пользу Творца. Его преступники и злодеи оттого и столь привлекательны, что списаны им с самого себя: за каждым мерещатся старцы и каждого мучит Бог. По сути, это всё те же персонажи Блуа, только в русском разбойничьем исполнении. Он просто перенёс их из парижской бордельной ауры в отечественные трактиры, после чего и стал выкрикивать из них своё чудовищное отчаяние, не переставая коситься при этом на православные скиты и монастыри. Общее у обоих: ужас перед всесилием зла, которое один отказывается понять, а другой просто не понимает. И ещё: смещённая оптика восприятия. Совпадение поражает неслучайностью. Уход от дел, самоувольнение Бога у Блуа и одновременный уход его в «Легенде» Достоевского: что это, как не чистая чертовщина, где один чёрт (Люцифер, прикидывающийся Христом) передаёт полномочия другому чёрту (Ариману, прикидывающемуся Люцифером), чтобы усилить терпкость и пряность Lacrimae Christi! Достоевский удивительно ощутил и воспроизвел это в финале «Легенды», когда гениально выговорившийся наконец как на духу старик указывает молчащему пленнику на дверь, а тот (не вымолвивший ни слова Логос!) целует его в уста и УХОДИТ. Dieu se retire: формула Блуа. Как будто можно опереточным поцелуем нейтрализовать тяжесть разящих наповал аргументов! А потом ещё и уйти. Куда же уходит этот исполненный чувств, но слабый мыслью Бог? В богадельню, монастырь, санаторий? На пенсию и покой? Может, в церковь – зажечь лампадку и помолиться Себе? В этом саморазрушительном абсурде – красная линия и предел христианства, потому что честному чувствующему христианину Бог, запутавшийся в собственном Творении, не может явиться иначе, как молчащим, уходящим, ушедшим. Блуа:[38] «Нет сомнения, что Бога больше нет, по крайней мере в Европе. Наверное, где-то в пустынях Азии или у островных идолопоклонников Полинезии есть Он ещё. Поклоняются же татары и людоеды, даже негры всё ещё (на деле или по видимости) Кому-то.» Беда в безмыслии, недомыслии, потому что, даже уходя, он не может уйти и исчезнуть – по той до обидного простой причине, что уйти и исчезнуть ему некуда. Ну куда в самом деле может запропасть ВСЁ ВО ВСЁМ! Разве что притаиться в бессознательном Гартмана, втайне и втуне надеясь на то, что понимающий его философ найдёт-таки ему достойный способ покончить с собой. Но иллюзией окажется и это. После того как благородное гартмановское бессознательное было переоборудовано под бессознательное Фрейда, Творцу Неба и Земли не оставалось иного выбора, как переподчинить себя: теперь уже его опекали не священники, а психиатры. Можно предположить, что из двух зол это не было худшим.
Мировой процесс в Веймаре (продолжение)
Жозеф де Местр, свирепый и безнадёжный люциферик в зареве приближающегося заката Европы, выносит из последних лет XVIII века приговор философскому пустословию на тему человек:[39] «Но в мире нет никакого человека. Я видел в своей жизни французов, итальянцев, русских и т. д.; благодаря Монтескьё, я знаю даже, что можно быть персом; что касается человека, смею заявить, мне он не встречался нигде, и если он где-то и существует, то без моего ведома.» Сулит немалые познавательные радости учиться на вспышке гнева ультраконсервативного француза прозревать в необходимость, с которой старая, затравленная всей сворой метафизических псов проблема универсалий вновь оживает в физической, слишком физической антропологии. Когда, скажем, находишь аналогичные ходы мысли у столь ненавистных автору просветителей, к примеру, у Локка. Щекотливый случай донельзя обнажает действительность противоречия. Понятно, что у умного реакционера де Местра достаточно вкуса и чувства реальности, чтобы не только не смешить эпоху Гольбаха и Лапласа допотопными платонизмами, но и избегать, как чумы, антиплатонизма локковского толка. Ярость, с которой здесь истребляется Локк, не имеет себе равных:[40] «Человек не может говорить; он не может выразить даже в отдалённейшем приближении свою мысль, не может даже произнести слово „и“, не опровергнув тем самым Локка.» Казус Локка не в том, что он номиналист, а в том, что он плохой, непоследовательный номиналист. Это видно уже по заглавному листу его главного произведения: Essay on Human Understanding. И даже по одному-единственному слову в нём: human. Потому что human в устах убежденного номиналиста есть не больше, чем логическое недомыслие. Будь Локк последовательнее, он бы говорил не о человеческом рассудке, а только о своём собственном. На чем и поймал его несравненный де Местр:[41] «Чтобы сделать книгу Локка во всех отношениях безупречной, достаточно было бы изменить в ней одно слово. Книга озаглавлена „Опыт о человеческом разумении“; давайте напишем просто „Опыт о разумении Локка“ – и мы не найдем другой такой книги, которая лучше бы отвечала своему названию.» А ещё проще было бы назвать её: «Опыт о неразумении Локка», хотя, строго говоря, Локк тут не при чем. Как ни при чем и де Местр, который в своём отрицании «человека» сам вдруг оказался в ловушке номинализма. Просто у Локка это промах и неразумение, а у де Местра прямое попадание в цель. Мы сталкиваемся здесь с одним из тех противоречий, появление которых возможно единственно с совершеннолетием сознания. Нельзя не усмотреть некоего педагогического намерения (гегелевской «хитрости идеи», если угодно), когда потенцированному ad absurdum номинализму выпадает участь обнаружить больше Духа и Бога, чем это могли бы представить себе иные метафизические сластолюбцы. Бесчеловечность де Местра не антигуманизм, а всего лишь антропологическая проекция безбожия. В его подрывном теизме человека нет и не может быть по той же причине, по какой в просветительском атеизме нет и не может быть Бога. Человек не в меньшей степени fatus vocis, колеблемый речью воздух, чем Бог и Дух. С тем, однако, непобедимым преимуществом, что, в противоположность Богу теизма, который по определению есть, но не становится, он не есть, а становится. Нет смысла, поэтому, искать его там, где его нет, то есть в его отсутствующем бытии, а не там, где он есть, то есть в его фактическом становлении. Оставаясь в «бытии» (включая более позднюю хайдеггериаду «здесь-бытия» или «так-бытия»), он лишь ставит себя в буриданово «между-бытие» посреди двух стогов сена, из которых один помечен теологическим, а другой зоологическим лейблом. Реакционер и инквизитор де Местр, выброшенный бушующей мыслью из христианского пленения в исход Макса Штирнера, просто берёт сторону фактического естественного человека (француза, итальянца, русского, перса, но не вообще, а вот этого вот) против человека вообще. Здесь он вынужден повернуться лицом к Локку, потому что без Локка человека можно было бы с таким же успехом стушевать антропологически, с каким теологически был стушеван Бог. Ни в ком этот фатальный тупик не обнаружил себя с большей очевидностью, чем в страстном еретике гегельянства Фейербахе, разоблачившем в Боге самопроекцию «сущности человека» и не заметившем, что сама эта сущность была лишь калькой со старого понятия Бог. Гениальному Фейербаху не хватало смелости (или безумия), чтобы понять, что СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА – это КАКОЙ-ТО ОДИН КОНКРЕТНЫЙ ФАКТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК, потенцирующий своё существование до сущности, то есть создающий сущность (универсалию) человека на своём конкретном единичном существовании. Человек (как понятие и сущность) – не просто мыслимый номен, но и ens reale, которое – из уважения к Фоме Неверующему – существует не потому, что в него верят, а потому, что его видят? Видят ТЕЛО, которое есть в то же время ПОНЯТИЕ. Понятно, что об этот порог должна была споткнуться философия, обвитая ещё пуповиной платонизма. С какого-то момента проблема универсалий, заболтанная до смерти теологами и философами, оказалась вдруг в компетенции естествознания. Гёте нашёл её в анатомии: в межчелюстной кости, os intermaxillare, куда её занесло из бесплодных земель схоластики. Очень важная особенность: когда философские (или теологические) проблемы дискредитируются философами (теологами), они – неузнанными – выныривают в смежных естественнонаучных дисциплинах. Старый ансельмо-росцеллиновский спор прочитывается уже не в лабиринтах пожелтевших фолиантов, а en plein air – в новом походе германцев на Италию («Итальянское путешествие»). Негативная антропология де Местра, за локковским лаком которой просвечивает старая theologia apophatica, обнаруживает неожиданное родство с гётевской ботаникой. Только Гёте, в отличие от де Местра, ищет отсутствующее перворастение, а не констатирует факт отсутствия. Гётевский argumentum a contrario («Должно же оно существовать! Иначе как узнать, что то или иное формирование – растение, если все они не сформированы по одному образцу?») хоть и встраивается в де-местровскую негацию, но взрывает её изнутри. Конечно, антропология не была заботой Гёте; свои научные аппетиты он сознательно ограничивал ботаникой и зоологией, потому что, по прекрасной характеристике Карла Лёвита,[42] то, что он хотел, всегда соответствовало тому, что он мог. Он не хотел ввязываться в науку о человеке, потому что чувствовал или предчувствовал, что не сможет её осилить. Человека он осиливал как художник, не как учёный: в «Фаусте», «Тассо», «Мейстере». Но одно несомненно: столкнись он с антропологической проблемой, ему пришлось бы в первом приближении опознавать её в ботанике. «Да, и я никогда не встречал человека (= первочеловека), но ведь должен же таковой существовать; откуда бы мы знали иначе, что мы люди, не будь мы все сформированы по одному образцу?» Остальное было бы молчанием. Потому что проблема хоть и опознаётся на растительной или животной парадигме, но никак не решается в ней. С преодолением де-местровского нигилизма она только начинается, и начинается как внезапно разверзшийся логический ад. Если перворастение существует, то, бесспорно, не на лугах и в садах среди других растений, так что искать его там (и так) было бы дон-кихотством и безумием. Перворастение – мысль и созерцание, созерцательная мысль, и его modus existendi – интеллектуальная интуиция немецкого идеализма. Сказать это, значит сказать правду, но неполную, и оттого без труда переходящую в неправду. Гёте не идеалист и шеллингианец, а если и да, то открыто эпатирующий идеализм дон-кихотскими выходками. Чудак, рыщущий под открытым небом в поисках перворастения. Ну, кто же в здравом уме едет в Палермо, чтобы, замаскировавшись интересом к Калиостро, искать там свои интеллектуальные интуиции! Был ли Гёте безумцем? Человек, которого трезвейший Поль Валери[43] назвал однажды «lemoins fou des hommes» (наименее сумасшедшим из людей). Перворастение – идея, мысль, а идею и мысль не ищут в лесах. Образованный кантианец Шиллер поставил же на место веймарского простака, полагавшего по наивности, что он увидел перворастение.[44] Шиллер: «Тип не видят, а мыслят, это не опыт, а идея.» На что рассерженный Гёте: «Очень мило, что я имею идеи, не зная этого, и даже вижу их глазами.» Он мог бы (по-гегелевски) добавить: если это не вяжется с Вашей философией, тем хуже для Вашей философии. Поставленный перед выбором между глазами и словами, философ, разумеется, выбирает слова. Это старый парижский анекдот (рассказанный Стендалем[45]). Молодой человек застаёт свою возлюбленную in fagranti. С оскорблённым видом она отрицает факт измены. Он восклицает: «Но ведь я вижу это!» На что она разочарованно: «Теперь мне ясно, что Вы меня не любите, потому что Вы доверяете больше своим глазам, чем моим словам.» – Есть все основания доверять глазам Гёте больше, чем словам философов. По следующей, к примеру, очевидности. Я смотрю в окно и вижу дерево. Я знаю, что то, на что я смотрю, есть дерево. Моё непосредственное восприятие (dass) дерева и моё знание (was) дерева даны в единстве. Дерево, которое я вижу, вполне реально, конкретно, вот это вот. Но как дерево оно вместе с тем понятие, имя, nomen. Смотря на множество деревьев, я вижу в них именно дерево, дерево вообще, συνοραν εις έν είδος Платона. Вопрос: почему, видя и говоря «дерево», я показываю пальцем на само дерево, а не на собственную голову. Наверное, по той же причине, по какой, стоя перед зеркалом, я вижу себя в зеркале, а не себя из зеркала. Дерево я не только воспринимаю вовне, но и мыслю вовне, потому что воспринятое дерево и есть мысль в двойной данности: чувственного восприятия и сверхчувственного понятия. Если философски искушённому Шиллеру вздумалось учить наивного Гёте философским азам, согласно которым перворастение не может быть увидено, а только помыслено, потому что иначе оно было бы опытом, а не идеей, то реакция Гёте, который и в философии столь же мало держался протокола, как в естествознании, могла быть только однозначной. Перворастение – это идея, и, как идея, сверхчувственно, но в то же время оно ничуть не менее конкретно и эмпирично, чем зримые растения. Просто, смотря на те, многие, Гёте видит это, одно. Он мыслит его глазами. Или, если угодно, видит его мыслью. Как во сне, но наяву. В яви и действительности (= смерти) сна. В одной заметке 1819 года[46] Гёте пишет: «Я умел, опустив голову и закрыв глаза, представить себе в середине органа зрения цветок, который ни на минуту не оставался в первоначальном виде, а развёртывался, и изнутри появлялись новые цветы, из окрашенных, в том числе и зелёных, лепестков: это были не настоящие цветы, а фантастические, и всё же правильные, как бы вылепленные рукою скульптора. Было невозможно зафиксировать этот возникающий зрительный образ, но это продолжалось столько времени, сколько мне хотелось, не ослабевая, но и не усиливаясь.» Здесь слышна старая реплика из спора с Шиллером: «Мне может быть только приятно, что я имею идеи, не зная этого, и даже вижу их глазами.» Он просто увидел растения не только в их физической вариативности, но и в их превращающейся тематичности, опознав в последней мысль: не заколоченную в голове мысль философов, а мысль как жизнь самих растений. Перворастение суть растения: не понятие растений, а сами они, в двоякой явленности, чувственной и сверхчувственной: на лугах и в мысли, оба раза в природе, потому что мысль о растениях не меньше принадлежит к растениям, чем корни, стебли и листья. С необыкновенной остротой и ясностью указывает на это Рудольф Штейнер:[47] «Наивное сознание понимает мышление как нечто не имеющее ничего общего с вещами, но стоящее совершенно в стороне от них и размышляющее о мире. Картина явлений мира, которую набрасывает мыслитель, рассматривается не как нечто принадлежащее к вещам, а как нечто существующее только в голове человека; мир считается готовым и без этой картины. Мир целиком готов во всех своих веществах и силах, и человек составляет себе образ именно этого законченного мира. Тех, кто так думает, следует лишь спросить: по какому праву вы объявляете мир готовым без мышления? Не производит ли мир с той же необходимостью мышление в голове человека, с какой он производит цветок у растения? Посадите семя в землю. Оно распустится корнем и стеблем. Оно покроется листьями и цветами. Противопоставьте растение самим себе. Оно соединится в вашей душе с определённым понятием. Почему это понятие меньше принадлежит ко всему растению, чем лист и цветок? Вы скажете: листья и цветы существуют и без воспринимающего субъекта, понятие же возникает лишь тогда, когда человек противопоставляет себя растению. Отлично. Но и цветы с листьями возникают у растения только тогда, когда налицо земля, в которую может быть положено семя, когда налицо свет и воздух, в которых могут распускаться листья и цветы. Именно так возникает и понятие растения, когда к растению подступается мыслящее сознание.» Разница в том, что место свершения понятия уже не луга и сады, а внутренний мир ботаника, в котором луга и сады, чувственно явленные растения восполняют и обретают себя в своей сверхчувственной идентичности. Перворастение, Urpfanze – ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ, или мыслящие себя в понятии сами растения, которые, за невозможностью делать это самим и на лугах, делают это в человеческой мысли. Как непосредственно данные голые физические воспринимаемости, они растут и цветут в природе; как перворастение, они свершаются в человеке. Их природа теперь – человеческий внутренний мир, в котором и через который они впервые приобретают осмысленность и становятся самими собой. Гёте – высшая природа в природе: растения, потенцированные до мысли, которая не только мыслится Гёте, но – «Sag es niemand, nur den Weisen,/Weil die Menge gleich verhöhnet»[48] – ЕСТЬ Гёте.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Очерк философии в самоизложении"
Книги похожие на "Очерк философии в самоизложении" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Карен Свасьян - Очерк философии в самоизложении"
Отзывы читателей о книге "Очерк философии в самоизложении", комментарии и мнения людей о произведении.