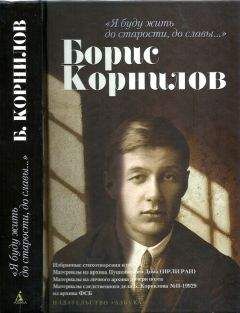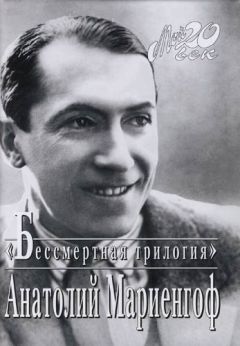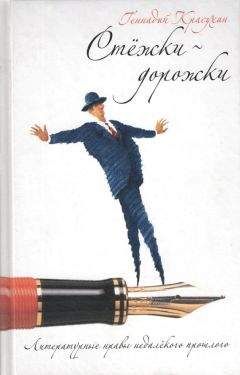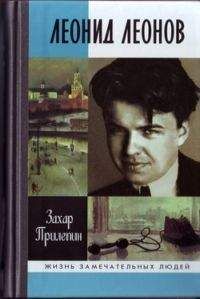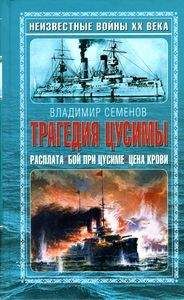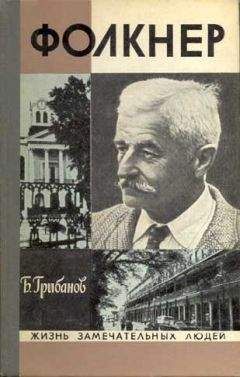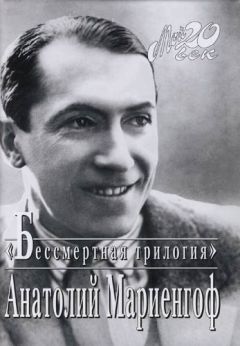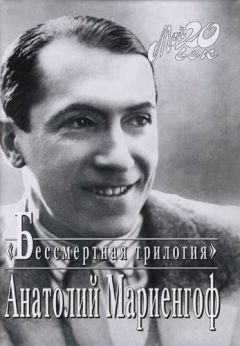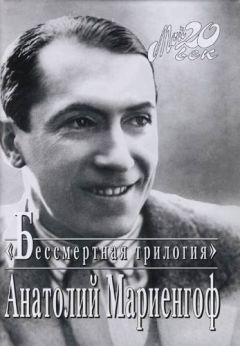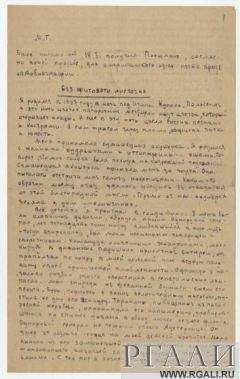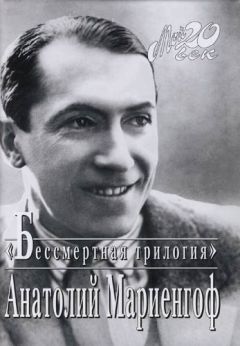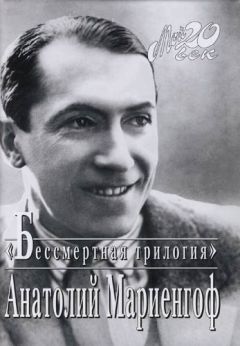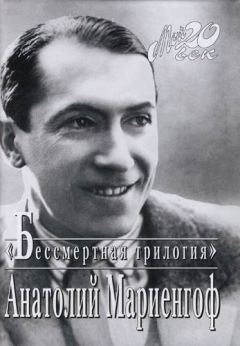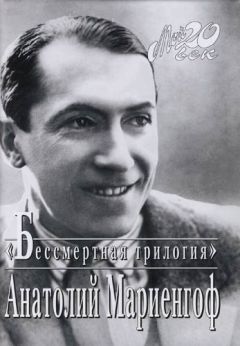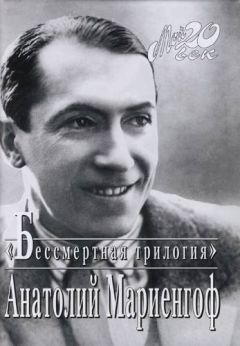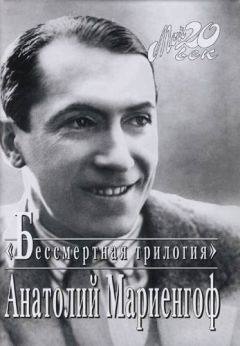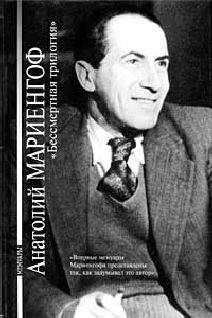Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"
Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.
Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.
знак информационной продукции 16 +
Это Павел Васильев, снова «Провинция-периферия».
А вот его собрат, Корнилов, стихотворение «На Керженце» (1927):
Девки чёрные молятся здесь,
Старики умирают за делом
И не любят, что тракторы есть —
Жеребцы с металлическим телом.
Это русская старина,
Вся замшённая, как стена,
Где водою сморёна смородина,
Где реке незабвенность дана, —
Там корёжит медведя она.
Желтобородая родина,
Там медведя корёжит медведь.
Замолчи!
Нам про это не петь.
А сами всё равно поют, и ненависти своей не верят, потому что вылезти из своей шкуры и расстаться с позвоночником нельзя.
Лошадей описывают — сразу ясно, что с детства понимают и любят это животное, и дело с ним имели. И жалеют это животное — всем существом, до слёз.
У Корнилова:
И на двор летит из конюшни серый.
В яблоках. Жеребец.
Он себе не находит места,
сталь на жёлтых его зубах —
это слава всего уезда
ходит по двору на дыбах.
Попрощайся с красою этою.
Вот он мечется, ищет лаз,
и кровавые змейки сетью,
как ловушка, накрыли глаз.
…………………………………
Кровь, застывшую словно патоку,
он стирает с ножа рукой,
стонет,
колет коня под лопатку —
на колени рушится конь.
У Васильева:
А у коня глаза тёмные, ледяные.
Жалуется. Голову повернул.
В самые брови хозяину
Теплом дышит.
Тёплым ветром затрагивает волосы:
«Принеси на вилах сена с крыши».
Губы протянул:
«Дай мне овса».
…………………………
Да по прекрасным глазам,
По карим,
С размаху — тем топором…
И когда по целованной
Белой звезде ударил,
Встал на колени конь
И не поднимался потом.
Трудно не заметить ярмарки Васильева и базары Корнилова: им же обоим надо, чтоб много было мяса, цвета, плоти, а где как не на ярмарке, как не на базаре — этого вдосталь?
У них и пристрастие было к одним и тем же «звериным» словам:
…чтоб снова Триполье
не встало на лапах,
на звериных,
лохматых
медвежьих ногах…
у Корнилова. И:
…цветы эти верно
стояли на лапах… —
у Васильева.
Лапы — это по их части, оба — звероваты, движимы в стихе не столько рассудком, сколько чутьём: как надо сделать, чтоб стих заиграл, загудел, а потом сжался комом в горле.
Оба, знавшие крестьянство лично, изнутри, дали антикулацкие, тяжёлые, едкие картины:
Босяки удила закусили, —
Евстигней раскрывает рот:
— Что тут сделаешь,
Брат Василий,
Как рассудишь
Колхоз идёт.
— Что ж колхоз,
А в колхозе — толку?
Кони — кости и гиблый дых,
Посшибали лошажьи холки,
Скот сгубили, разъяви их! —
из поэмы Васильева «Кулаки» (1933–1934).
Тёрли шеи воловьи,
пили мутную радость —
подходящий сословью
крестьянскому градус.
Приступая к беседе,
говорили с оглядкой:
— Что же.
Это.
Соседи?
Жить.
Сословью.
Не сладко, —
из поэмы Корнилова «Триполье» (1933–1934).
Но за тяжеловесным, ловко срифмованным — как суровой ниткой прошитым — осуждением неизбежно стояло любование мужиком — и это любование чувствовали.
И ругали и первого, и второго за одно и то же: поэтизация кулачества и всё такое прочее.
Оба отругивались:
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать, —
Павел Васильев — «Письмо» (1927).
А нам наплевать —
неприятен, рекламен
кому-то угодный критический вой, —
Борис Корнилов — «Слово по докладу Висс. Саянова…» (1931).
Оба написали практически идентичную историю про работавшую во враждебной и мрачной деревне советскую девушку — «Песня» Васильева 1930 года и «Чиж» Корнилова 1936-го.
Причём у Васильева, скорее всего, и знать не знавшего в 1930 году о Корнилове, его Мария помещена в керженские леса, где Васильев вообще не бывал.
Оба, чтоб от них отстали, гнали схожие пустопорожние, бахвалистые строки на тему советского миролюбия, которое в любую минуту может обернуться совсем иным:
Павел Васильев:
Мы говорим: нам не нужна война,
Мы на войну не выйдем сами.
Но если нападут предательски на нас,
Но если нужно будет — вся страна
Вдруг ощетинится штыками.
Борис Корнилов:
Мы хорошо работаем и дышим,
как говорится, пяди не хотим,
но если мы увидим и услышим,
то мы тогда навстречу полетим.
Неожиданны и постоянны у обоих украинские мотивы (где Украина — и где корниловский Семёнов или Васильевский Павлодар?), но всё потому, что гоголевская эстетика — краски «Тараса Бульбы», разнообразная опасная нечисть, русалки, сельские сытные столы — всё это оказалось особенно близким тогда. Впрочем, не только им: отсюда и Бабель, с его метафоричностью и представлением о жизни, как о луге, по которому ходят женщины и кони. Женщины, кони и гул Гражданской — первое, что приходит к Васильеву и Корнилову в стихи.
Что важно заметить: мелодику, интонацию для описания Гражданской войны, безоговорочной героизации её, начали подыскивать и придумывать те, кто воевал на её фронтах — Багрицкий, Михаил Светлов, Алексей Сурков, Сельвинский (хотя иные русские поэты, в ней участвовавшие, вообще на эти темы не пели: скажем, Иван Приблудный).
Но окончательно раскрылась тема Гражданской у тех, кто туда не попал — у Луговского, Корнилова, Васильева, — прошедших по касательной, только почувствовавших горячий воздух войны.
В итоге к середине 1930-х уже сложились, в том числе при помощи Васильева и Корнилова, определённые архетипы, которые сразу же перешли в кинематограф не столько из прозы, сколько из поэзии: бандитский атаман, безжалостный и картинный (у Васильева принц Фома из одноимённой поэмы, у Корнилова Зелёный из «Триполья», и в ту же копилку Номах Есенина, тоже не воевавшего ни дня), чубатые казаки, непоборимые комиссары, решительные матросы и рядовые красноармейцы, разговаривавшие на особом, смачном, нарочито неправильном языке — неспешные мыслители, под махорочный дымок вечно разрешающие какую-то оригинальную задачу: например, как бы на Ленина одним глазком посмотреть, можно ли землю проткнуть насквозь, или сколько буржуев можно нанизать на один штык, а также непременные кулаки-мироеды — ражие мужики, мощные, как вековые дубы, которые при случае могут агитатора или чоновца пилой разрезать на две части; ну и так далее. Архетипы удались, и преодолеть их впоследствии оказалось задачей почти невыполнимой.
У обоих в стихах более чем достаточно кровавых картин, бессудных расстрелов, кошмара братоубийства.
Но есть и разница: Васильев задуман на радость, на победу, полон «весёлой веры в новое бессмертье» — он распахнут и будто не верит в свою погибель:
Я вглядываюсь в мир без страха,
Недаром в нём растут цветы.
Готовое пойти на плаху,
О кости чёрствые с размаху
Бьёт сердце — пленник темноты.
Корнилов иногда пытается быть таким же, но у него эта распахнутость — чувство куда менее естественное. Внешне он вроде бы такой же — но внутренний ужас в нём сильнее, неотступней и неизбежно прорывается. На плаху он не хочет и заранее об этом предупреждает.
Разглядывая их фотографии (или шаржи, сделанные на поэтов), можно обратить внимание, что Васильев, как правило, улыбчив и боевит, а Корнилов скорее минорен — а если улыбается, то есть подозрение, что он не совсем трезв.
Впрочем, на фоне всего остального вышесказанного это не определяющие различия.
Говорить о взаимовлиянии в их случае, как ни удивительно, довольно сложно: они хоть и знали друг друга по лучшим стихам, но многое из того, в чём Васильев и Корнилов повторяются, — они не читали друг у друга. Весомая часть стихов Васильева так и не была опубликована при его жизни — в отличие от Корнилова, у него отдельной книжкой вышла только поэма «Соляной бунт»; да и у Корнилова многое было рассеяно в нижегородской и ленинградской периодике, за которой Васильев элементарно не мог уследить.
Тут другое: схожесть воспитания, взросления, схожесть взгляда на эпоху, общие пристрастия — хоть в поэзии, хоть в шальном времяпрепровождении, схожесть судеб, причём не только начала и развития этих судеб, но и финала тоже, — всё это сыграло с ними забавную шутку: они непрестанно, чуть преломляясь, отражались друг в друге.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"
Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"
Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.