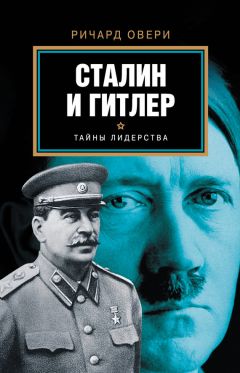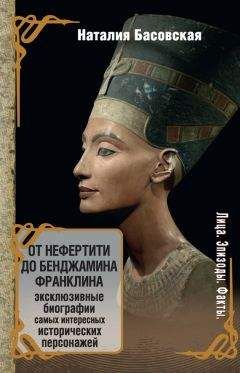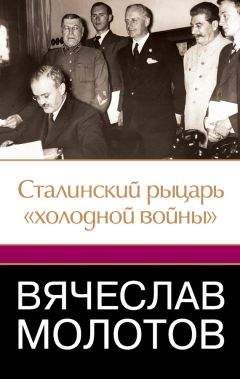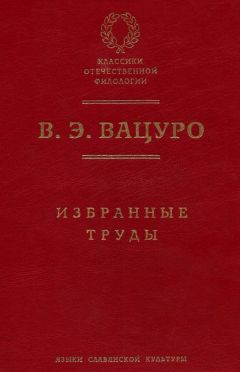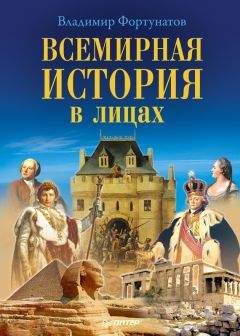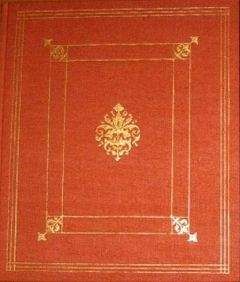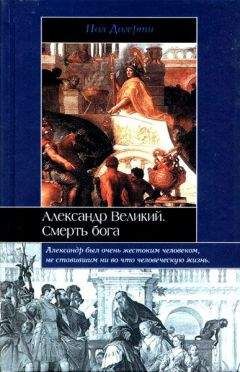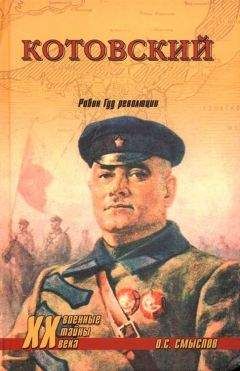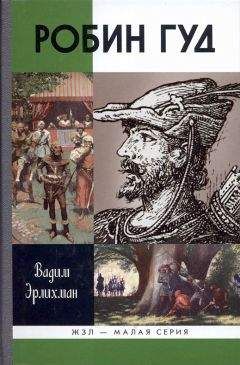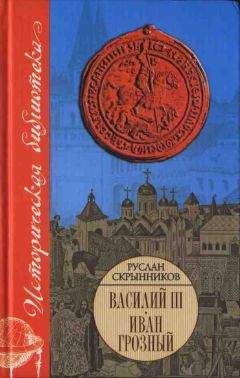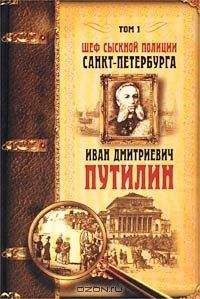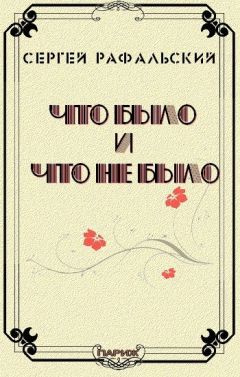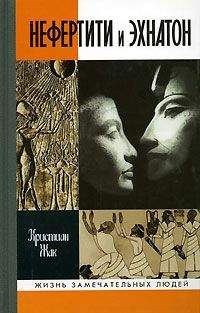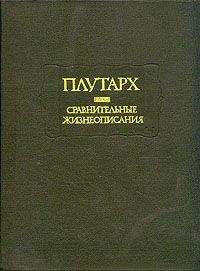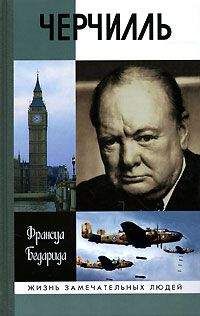Робин Коллингвуд - Идея истории
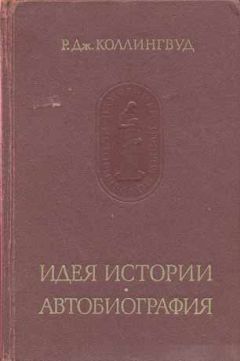
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Идея истории"
Описание и краткое содержание "Идея истории" читать бесплатно онлайн.
Как продукты воображения, работы историка и романиста нисколько не отличаются. В чём они различаются, так это в том, что картина, созданная историком, имеет в виду быть истинной.
(Р. Дж. Коллингвуд)
Существующая ныне история зародилась почти четыре тысячи лет назад в Западной Азии и Европе. Как это произошло? Каковы стадии формирования того, что мы называем историей? В чем суть исторического познания, чему оно служит? На эти и другие вопросы предлагает свои ответы крупнейший британский философ, историк и археолог Робин Джордж Коллингвуд (1889—1943) в знаменитом исследовании «Идея истории» (The Idea of History).
Коллингвуд обосновывает свою философскую позицию тем, что, в отличие от естествознания, описывающего в форме законов природы внешнюю сторону событий, историк всегда имеет дело с человеческим действием, для адекватного понимания которого необходимо понять мысль исторического деятеля, совершившего данное действие. «Исторический процесс сам по себе есть процесс мысли, и он существует лишь в той мере, в какой сознание, участвующее в нём, осознаёт себя его частью». Содержание I—IV-й частей работы посвящено историографии философского осмысления истории. Причём, помимо классических трудов историков и философов прошлого, автор подробно разбирает в IV-й части взгляды на философию истории современных ему мыслителей Англии, Германии, Франции и Италии. В V-й части — «Эпилегомены» — он предлагает собственное исследование проблем исторической науки (роли воображения и доказательства, предмета истории, истории и свободы, применимости понятия прогресса к истории).
Согласно концепции Коллингвуда, опиравшегося на идеи Гегеля, истина не открывается сразу и целиком, а вырабатывается постепенно, созревает во времени и развивается, так что противоположность истины и заблуждения становится относительной. Новое воззрение не отбрасывает старое, как негодный хлам, а сохраняет в старом все жизнеспособное, продолжая тем самым его бытие в ином контексте и в изменившихся условиях. То, что отживает и отбрасывается в ходе исторического развития, составляет заблуждение прошлого, а то, что сохраняется в настоящем, образует его (прошлого) истину. Но и сегодняшняя истина подвластна общему закону развития, ей тоже суждено претерпеть в будущем беспощадную ревизию, многое утратить и возродиться в сильно изменённом, чтоб не сказать неузнаваемом, виде. Философия призвана резюмировать ход исторического процесса, систематизировать и объединять ранее обнаружившиеся точки зрения во все более богатую и гармоническую картину мира. Специфика истории по Коллингвуду заключается в парадоксальном слиянии свойств искусства и науки, образующем «нечто третье» — историческое сознание как особую «самодовлеющую, самоопределющуюся и самообосновывающую форму мысли».
Б. Футурологический аспект этого движения, теория, утверждающая, что золотой век наступит в близком будущем, находит свое выражение у Кондорсе. В своих «Эскизах исторической картины прогресса человеческого разума», книге, написанной во время Французской революции в тюрьме в ожидании казни, он предвидит это утопическое будущее, в котором тираны и их рабы, священники и те, кто одурачен ими, исчезнут, а люди будут вести себя разумно, наслаждаясь жизнью, свободой и поиском счастья.
Из приведенных нами примеров ясно, что историография Просвещения в высшей степени апокалиптична, что, впрочем, явствует и из самого термина «просвещение». Центральным моментом истории для этих писателей был рассвет современного научного духа. До него все было суеверием и мраком, заблуждением и обманом. Но у всего этого не может быть истории — не только потому, что не заслуживает внимания историка-исследователя, но и потому, что здесь нельзя обнаружить рационального, или необходимого, развития. Рассказ о нем — история, переданная словами идиота, полными шума и ярости, но фактически ничего не обозначающими.
По такому важнейшему вопросу, как вопрос о происхождении современного научного духа, эти писатели тоже не могли предложить никакой теории, объясняющей его исторические корни или его эволюцию. Чистый разум не мог возникнуть из чистого безумия. Не могло быть развития от одного к другому. Рассвет научного духа, с точки зрения Возрождения, был просто чудом, совершенно не подготовленным предшествовавшим ходом событий и не вызванным никакой причиной, которая была бы адекватна такому следствию. Эта неспособность объяснить исторически то, что они сами считали самым важным событием в истории, безусловно, очень симптоматична. Отсюда следует, что у них не было никакой общей удовлетворительной теории исторической причинности и они не могли всерьез верить в происхождение или генезис чего бы то ни было. Поэтому во всех их исторических работах описания причин исторических явлений поверхностны до абсурда. Именно эти историки, например, придумали карикатурное объяснение возникновения Ренессанса в Европе, связав его с падением Константинополя, с последовавшим изгнанием ученых и их переселением на новые места. Замечание Паскаля, что если бы нос Клеопатры оказался длиннее, то вся история мира была бы иной{27}, — типичное выражение этого отношения к исторической причинности. Иными словами, оно — типичный показатель банкротства исторического метода, который, отчаявшись в возможности найти подлинное объяснение, приписывает самым банальным причинам весьма далеко идущие следствия. Эта неспособность обнаружить подлинно исторические причины, несомненно, связана с юмовской теорией причинности, в соответствии с которой мы совершенно не в состоянии воспринять какую бы то ни было связь между любыми двумя событиями.
По-видимому, наилучшую краткую оценку историографии Просвещения можно было бы дать, сказав, что просветители переняли концепцию исторического исследования, изобретенную церковными историками конца семнадцатого века, и направили ее против них, пользуясь ею в подчеркнуто антицерковном, а не церковном духе, как делали последние. Не было предпринято ни одной попытки поднять историю над уровнем простой пропаганды. Напротив, пропагандистский аспект истории был усилен, ибо крестовый поход во имя разума все еще оставался священной войной, и Монтескье попал в самую точку, когда говорил, что Вольтер по своему духу был историком-монахом, пишущим для монахов[48*]. В то же самое время историки этого периода добились некоторых определенных успехов. Будучи нетерпимыми и ослепленными страстью, они отстаивали терпимость. Совершенно неспособные оценить творческую силу народного духа, они в своих трудах стали на точку зрения подданных, а не правительств и тем самым придали совершенно новое значение истории ремесел и наук, промышленности и торговли, истории культуры вообще. Сколь бы ни были они поверхностны в поисках исторических причин, они все же их искали и, следовательно, неосознанно понимали историю, вопреки Юму, как процесс, в котором одно событие необходимо влечет за собой другое. Таким образом, их собственная мысль заключала в себе некое бродящее начало, которое имело тенденцию разрушить догмы, созданные ими самими, вывести историю за ограниченные рамки, ими же самими наложенные. В их работах глубоко скрывалось представление об историческом процессе как процессе, развивающемся не по воле просвещенных деспотов и не по жестким планам потустороннего божества, а в результате необходимости, присущей ему самому, имманентной необходимости, при которой само неразумие оказывается замаскированной формой разума.
§ 10. Наука о человеческой природе
В § 1 этой части я обратил внимание читателя на то, что критика Юмом духовных субстанций была философской предшественницей научной истории, потому что она разрушила последние остатки субстанциализма, присущего греко-римской мысли. В § 8 я показал, как Локк и его последователи, сами того полностью не сознавая, переориентировали философию с естественных наук на историю. И если что-то помешало историографии восемнадцатого столетия стать научной, пожав все плоды этой философской революции, так это были незаметные остатки субстанциализма, заложенные в стремлении Просвещения создать науку о человеческой природе. Точно так же, как античные историки описывали римский характер, например, как вещь, никогда не имевшую своего начала, но существующую в неизменном виде испокон веков, так и историки восемнадцатого столетия, признавшие, что всякая подлинная история — это история человечества, предполагали, что человеческая природа от сотворения мира всегда была точно такой же, какой она представала в их время. Человеческая природа понималась субстанциально как нечто статическое и постоянное, неизменный субстрат, лежащий в основе всего хода исторических изменений и человеческой деятельности. История никогда не повторялась, но человеческая природа оставалась вечной и неизменной.
Это положение, как мы видели, встречается у Монтескье, но оно также лежит в основе всех философских работ восемнадцатого столетия, не говоря уже о более ранних периодах. Картезианские врожденные идеи — это способы мышления, естественно присущие человеческому уму как таковому всегда и везде. Локковское человеческое разумение — это нечто такое, что, как предполагается, остается одним и тем же повсюду, хотя у детей, идиотов и дикарей оно развито недостаточно. Кантианский дух, который в качестве интуиции оказывается источником времени и пространства, в качестве рассудка — источником категорий, а в качестве разума — источником идей бога, свободы и бессмертия, — это чисто человеческий дух, но у Канта никогда не возникает вопроса о справедливости его предположения, что этот дух является единственно возможным видом существующего или когда-либо существовавшего человеческого сознания. Даже такой скептический мыслитель, как Юм, исходит из того же предположения, как мною было указано выше. Во Введении к «Трактату о человеческой природе» он разъясняет план своей работы, указывая, что «все науки в большей или меньшей степени имеют отношение к человеческой природе и что сколь бы удаленными от последней ни казались некоторые из них, они все же возвращаются к ней тем или иным путем. Даже математика, естественная философия и естественная религия (т. е. три картезианские науки: математика, физика и метафизика. — Авт.) в известной мере зависят от науки о человеке, поскольку они являются предметом познания людей и последние судят о них с помощью своих сил и способностей»{28}. Следовательно, «наука о человеке», т. е. наука, которая исследует «принципы и действия нашей способности разумения», «наши вкусы и чувства» и «людей, объединенных в общество», является «единственным прочным основанием других наук»{29}.
Говоря все это, Юм совершенно не подозревал, что та человеческая природа, которую он анализировал в философском труде, представляет собой природу западноевропейца начала восемнадцатого столетия, что то же самое исследование, расширив свои рамки и охватив людей из различных стран и времен, могло бы привести к совсем иным выводам. Он всегда предполагает, что наша способность суждения, наши вкусы и чувства и т. д. совершенно однотипны и неизменны, рассматривая их вместе с тем как основу и условие всех исторических изменений. Как я уже указывал, его критика идеи духовной субстанции в случае ее успеха должна была бы привести к уничтожению этой концепции природы человека как чего-то прочного, вечного и неизменного. Но ничего подобного не произошло, потому что Юм заменил идею духовной субстанции идеей устойчивой предрасположенности человеческого разума к тому, чтобы связывать свои впечатления определенным образом, и эти законы ассоциации были (в его теории) столь же однообразными и неизменными, как любая субстанция.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Идея истории"
Книги похожие на "Идея истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Робин Коллингвуд - Идея истории"
Отзывы читателей о книге "Идея истории", комментарии и мнения людей о произведении.