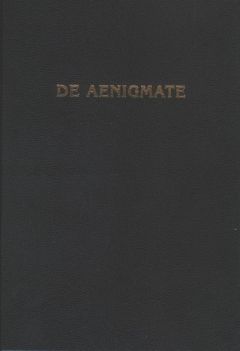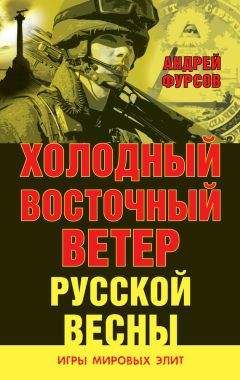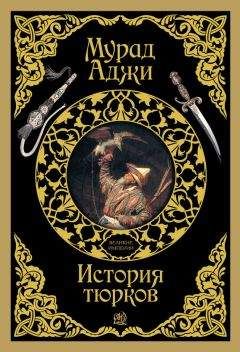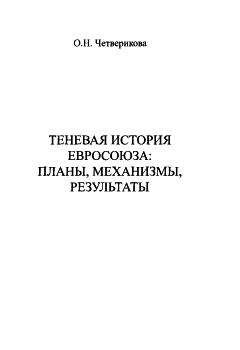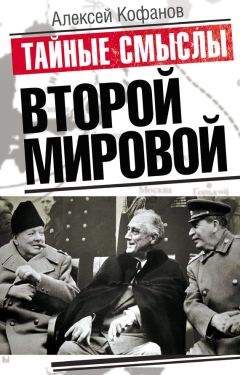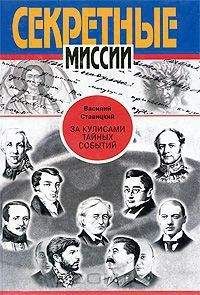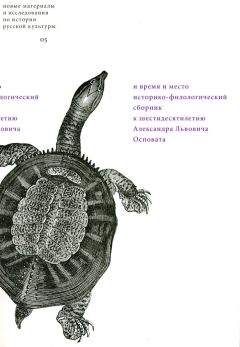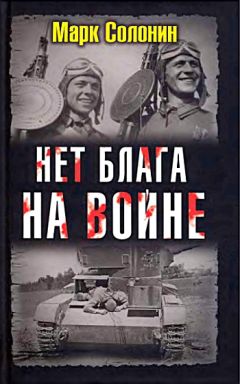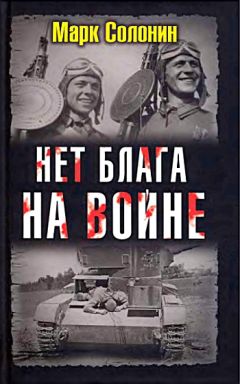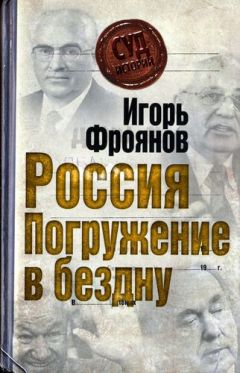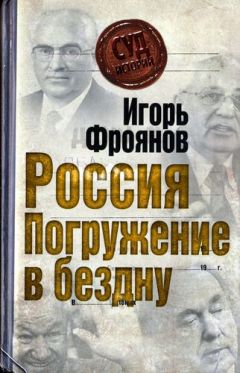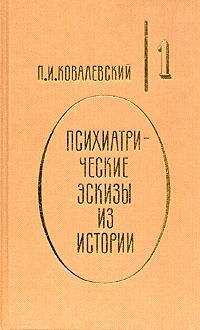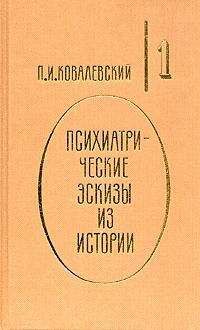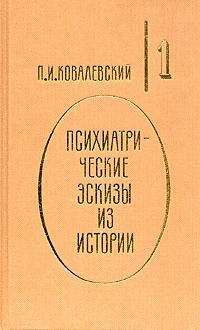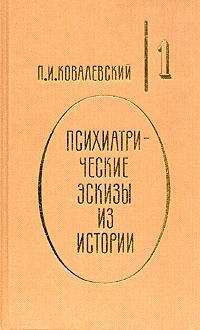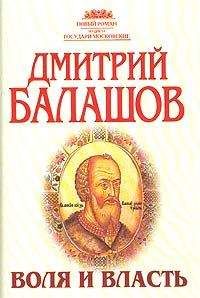А. Фурсов - De Secreto / О Секрете
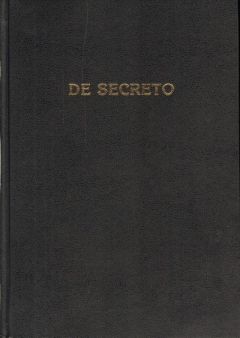
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "De Secreto / О Секрете"
Описание и краткое содержание "De Secreto / О Секрете" читать бесплатно онлайн.
Сборник научных трудов логически продолжает сборники «De Conspiratione/О Заговоре» (М., 2013) и «De Aenigmate/О Тайне» (М., 2015). В представленных работах исследуется ряд скрывающихся за завесой секретности событий XIX–XX вв. Речь идёт о событиях мировой борьбы за власть, информацию и ресурсы.
«Это называется — спецконвой… Переезжать так достаётся немногим. Мне же в моей арестантской жизни припало три раза. Спецконвой дают по назначению высоких персон. Его не надо путать со спецнарядом, который подписывается в аппарате ГУЛАга. Спецнарядник чаще едет общими этапами»[664]. «Вот с тех-то островов с одного на другой, со второго на третий меня и перевозили спецконвоем: двое надзирателей да я»[665].
Спецконвой, — читаем мы в справочнике Жака Росси, — это конвой, состоящий из нескольких человек и сопровождающий «срочно вызываемого заключённого или небольшую группу с места отправления до самого места назначения» или же конвой «для выполнения совершенно секретного задания, например, для сопровождения людей к месту их массовой казни»[666].
Чем же была вызвана необходимость срочной доставки А.И. Солженицына в Москву в 1945 г.? Почему нельзя было дождаться первого арестантского вагона, идущего на восток и отправить в Москву вместе со всеми? Но если не было срочности, остаётся «совершенно секретное задание».
Итак, мы можем констатировать, что на сегодняшний день точная, документально обоснованная картина первого ареста А.И. Солженицына отсутствует. Из двух известных нам версий его задержания версия самого А.И. Солженицына представляется совершенно неправдоподобной. Если же принять версию И.И. Соломина, получается, что никакого ареста 9 февраля 1945 г. не было.
Это полностью согласуется с тем фактом, что при «задержании» А.И. Солженицына не было исполнена элементарная процедура — не было произведено обыска у него на батарее. Да и его личный обыск, о котором пишет он, нельзя назвать обыском в полном смысле этого слова. И хотя Викторов и К.А. Столяров утверждали, что в следственном деле имелся протокол обыска, его текст неизвестен.
Неизвестен нам и протокол ареста. По утверждению названных авторов он был составлен только 14 февраля, т. е. в день отправки А.И. Солженицына из фронтовой контрразведки в Москву, хотя, по его словам, во фронтовой контрразведке он провел трое суток.
Необычно, что арестованный привёз охранявших его смершевцев в армейскую контрразведку, необычно, что якобы обнаруженные в его полевой сумке криминальные материалы нёс не конвойный, а сами заключённые по очереди, необычно, что арестованного офицера сопровождал довольно увесистый чемодан с его вещами, необычно, что из фронтовой контрразведки в Москву его доставили спецконвоем в обычном плацкартном вагоне.
Удивительное следствие
Если исходить из того, что А.И. Солженицын был доставлен на Лубянку для следствия, в стенах НКГБ должно было отложиться специально следственное дело. За прошедшие после крушения СССР годы это дело можно было не только опубликовать, но и соответствующим образом откомментировать. Однако до сих пор мы имеем о нём только случайные, непроверенные сведения.
На Лубянку А.И. Солженицын был доставлен 19 февраля 1945 г.[667]
О ходе следствия мы тоже можем судить главным образом на основании его собственных воспоминаний, а также материалов, введённых в оборот Б.А. Викторовым и К.А. Столяровым. Из них явствует, что заведённое на А.И. Солженицына в НКГБ СССР дело имело номер № 7629[668] а следствие вёл помощник начальника 3-го отделения 11-го отдела 2-го Управления НКГБ капитан государственной безопасности И.И. Езепов[669].
По свидетельству А.И. Солженицына, вначале его поместили в одиночку, затем около 23 февраля перевели в общую камеру — № 67[670], из неё — в камеру № 53[671]. Александр Исаевич называет шесть своих сокамерников[672], из них наиболее близко он сошёлся с Арнгольдом Сузи[673] — несостоявшимся кандидатом на пост министра эстонского правительства[674].
Как явствует из опубликованных материалов, на первом допросе 20 февраля А.И. Солженицын отверг предъявленное ему обвинение[675]. 26 февраля на вопрос И.И. Езепова, с какой целью он хранил портрет Л.Д. Троцкого, Александр Исаевич якобы заявил: «Мне казалось, что Троцкий идёт по пути ленинизма»[676]. Сказать такое в 1945 г. означало подписать себе обвинительный приговор. На очередном допросе 3 марта последовало признание вины[677].
В своё время А.И. Солженицын описал более тридцати способов воздействия на подследственных для получения необходимых показаний, но не привёл ни одного факта из собственного опыта. И неслучайно. «Мой следователь, — пишет он, — ничего не применял ко мне, кроме бессонницы, лжи и запугивания — методов совершенно законных»[678].
В первом издании «Архипелага» (1973 г.) он объяснял это следующим образом: «Содержание наших писем давало по тому времени полновесный материал для осуждения нас обоих. Следователю моему не нужно было поэтому ничего изобретать для меня»[679].
Во втором издании (1980 г.) мы читаем: «Содержание одних наших писем давало по тому времени полновесный материал для осуждения нас обоих; от момента, как они стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша с Виткевичем судьба была решена, и нам только давали довоёвывать, допринести пользу. Но беспощадней: уже год каждый из нас носил по экземпляру неразлучно при себе в полевой сумке, чтобы сохранилось при всех обстоятельствах, если один выживет — «Резолюцию № 1», составленную нами при одной из фронтовых встреч… Следователю моему не нужно было поэтому ничего изобретать для меня»[680].
Итак, в первом издании «Архипелага» излагалась вторая версия ареста, сформулированная в 1967 г. в интервью П. Личко, во втором издании — уже третья версия. Попробуем разобраться и прежде всего обратимся теперь к «Резолюции № 1»[681].
Во время встреч с Н.Д. Виткевичем я трижды просил его раскрыть содержание этого документа и объяснить, почему он так странно назывался, всякий раз Николай Дмитриевич искусно уходил от ответа[682]. Более «откровенным» в этом отношении оказался А.И. Солженицын:
«Я, — утверждает он, — не считаю себя невинной жертвой, по тем меркам. Я действительно к моменту ареста пришел к весьма уничтожающему мнению о Сталине, и даже с моим другом, однодельцем, мы составили такой письменный документ о необходимости смены государственного строя в Советском Союзе»[683].
«“Резолюция” эта, — читаем мы в «Архипелаге», — была — энергичная сжатая критика всей системы обмана и угнетения в нашей стране»[684]. Раскрывая характер этой критики, Александр Исаевич 28 апреля 1992 г. в интервью С. Говорухину уточнил, что советская система характеризовалась в названном документе как феодальная[685]. А затем «Резолюция № 1» «как прилично в политической программе, набрасывала, чем государственную жизнь исправить»[686]. К сожалению, ни Н.Д. Виткевич, ни А.И. Солженицын не раскрыли конкретное содержание своей программы «исправления» «государственной жизни»[687]'. Далее, если верить А.И. Солженицыну, в «Резолюции» говорилось: «Наша задача такая: определение момента перехода к действию и нанесение решительного удара по послевоенной реакционной идеологической надстройке»[688]. Завершалась «Резолюция» словами: «Выполнение всех этих задач невозможно без организации»[689].
«Даже безо всякой следовательской натяжки, — резюмирует А.И. Солженицын, — это был документ, зарождающий новую партию. А к тому прилегали и фразы переписки — как после победы мы будем вести “войну после войны”»[690].
Та борьба, на путь которой якобы встал автор этого документа, требовала от него не только осознания, что созданная к началу войны советская система не имела никакого отношения к социализму, не только стремления к переустройству общества на более гуманных и справедливых началах, но и совершенно исключительных моральных качеств, прежде всего готовности к самопожертвованию.
Обладал всем этим наш герой?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, вспомним, как в студенческие годы он, клянясь в верности советской власти и ленинизму, пытался уклониться от военной службы, причём таким способом, на который решится не каждый, вспомним, как он надеялся пересидеть войну в обозе, как будучи курсантом, со страхом думал о возможности попасть под Сталинград, а, став командиром батареи, вёл себя с подчинёнными как самодур, стремясь выслужиться, бросал людей под пули, создал на батарее собственную гауптвахту, вспомним «Прусские ночи».
Как же такой человек, по собственному признанию, бывший одновременно не только образцовым офицером, но также «насильником» и «палачом», мог возмутиться верховным главнокомандующим, вступить в рискованную переписку со своим другом и обвинять главнокомандующего в военных просчётах, теоретических ошибках и, тем более, в военно-феодальных методах руководства страной. Столь же невероятно, чтобы такой человек именовал в переписке И.В. Сталина «Паханом» и готов был к борьбе с существовавшим строем.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "De Secreto / О Секрете"
Книги похожие на "De Secreto / О Секрете" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "А. Фурсов - De Secreto / О Секрете"
Отзывы читателей о книге "De Secreto / О Секрете", комментарии и мнения людей о произведении.