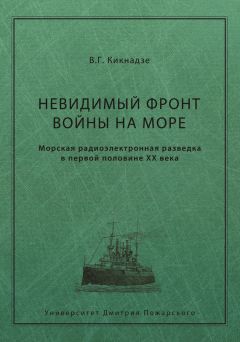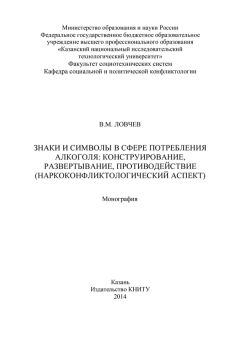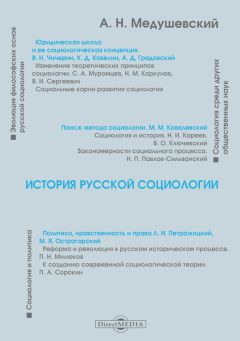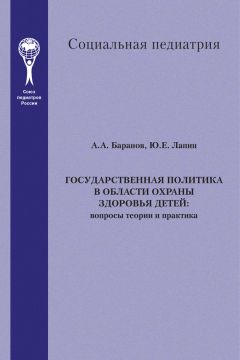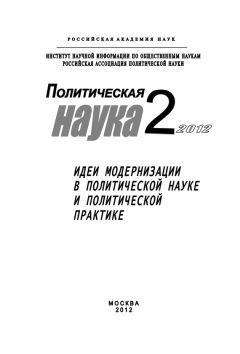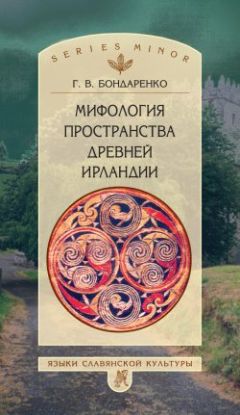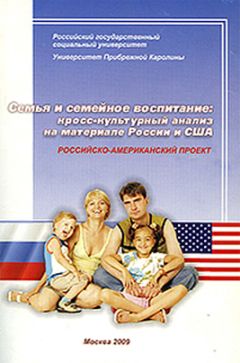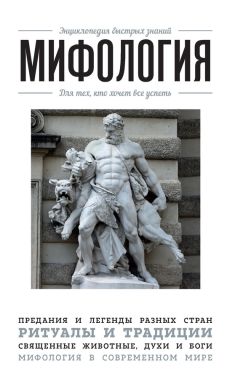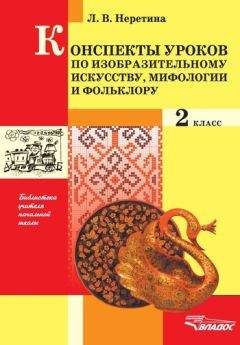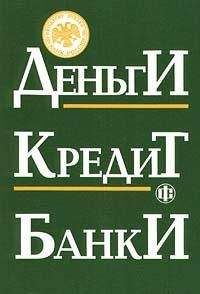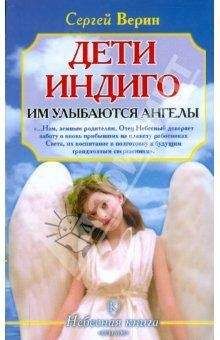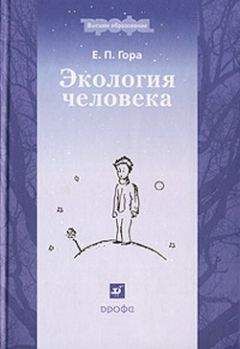Людмила Иванова - Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1
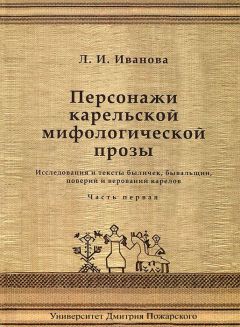
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1"
Описание и краткое содержание "Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1" читать бесплатно онлайн.
Данная книга является первым комплексным научным исследованием в области карельской мифологии. На основе мифологических рассказов и верований, а так же заговоров, эпических песен, паремий и других фольклорных жанров, комплексно представлена картина архаичного мировосприятия карелов. Рассматриваются образы Кегри, Сюндю и Крещенской бабы, персонажей, связанных с календарной обрядностью. Анализируется мифологическая проза о духах-хозяевах двух природных стихий – леса и воды и некоторые обряды, связанные с ними. Раскрываются народные представления о болезнях (нос леса и нос воды), причины возникновения которых кроются в духовной сфере, в нарушении равновесия между миром человека и иным миром. Уделяется внимание и древнейшим ритуалам исцеления от этих недугов. Широко использованы типологические параллели мифологем, сформировавшихся в традициях других народов. Впервые в научный оборот вводится около четырехсот текстов карельских быличек, хранящихся в архивах ИЯЛИ КарНЦ РАН, с филологическим переводом на русский язык. Работа написана на стыке фольклористики и этнографии с привлечением данных лингвистики и других смежных наук. Книга будет интересна как для представителей многих гуманитарных дисциплин, так и для широкого круга читателей
Сюндю как прорицатель чаще всего предсказывал события личного характера: свадьбу, смерть, пожар, падеж скотины, возвращение сына, но иногда и такие глобальные события как войну (30), образование колхозов (36), строительство железной дороги (38), богатый урожай (ФА 3650/6). Быть может, из-за своей основной функции божества судьбы, Сюндю иногда видели в образе катящегося большого деревянного колеса (Syndy vieri, ku suuri puuratoi). Это чаще всего происходило, когда пилили осину на маленькие колесики, чтобы получить осиновые опилки для замеса квашни[204]. Вспомним русское выражение «колесо судьбы» или «колесо фортуны».
Провинившегося слушателя Сюндю может даже убить (73). Он может выйти из проруби и погнаться следом (52, 53, 59, 67, 69). В таком случае надо предпринять какие-либо предохранительные действия: не смотреть назад (53), бросить вслед горящий берестяной клубок (68, 69), воткнуть в снег горящие свечи (68), с молитвой закрыть двери (52, 53, 58), надеть горшки на голову (43). Есть сюжеты, в которых Сюндю таскает слушающих, схватив за не обведенный кругом хвост коровьей шкуры. Сюндю может войти в сарай и отстегать плетью стены, до смерти напугав слушающего (56). В одной из быличек Сюндю приносит во время «слушания» девушке прямо под стол шашку; она выходит замуж за солдата, а потом оказывается, что эту шашку у него во время службы украли черти (71). Сюндю освобождает от болезни (60), жалеет хромоножку (67), подает из проруби волосатую руку (37) или дает ключи, предвещающие богатство (69, 70). Мохнатую руку часто во время гадания в бане может подать и баенник. «„Мохнатая рука“ эквивалентна шерсти, которая, подобно волосам и перьям, осмысляется как средоточие жизненной силы, магической и физической, и потому является знаком-символом предстоящего благополучия»[205]. А «ключи счастья», обеспечивающие пожизненный богатый улов рыбы, в Иванов день может дать водяной.
Таким образом, изучив персонажи, появляющиеся в сакрально-лиминальный период Святок, севернокарельский Vierissän akka и южно-карельский Syndy, исследовав их сходство и различие, можно сделать основной вывод о присутствии в этих образах как древнего языческого пласта, так и более поздних христианских наслоений. В образе Крещенской Бабы больше ощущается женское природное начало; возможно, это когда-то была покровительница вод, Мать Воды. Основной локус ее обитания – вода, причем во вневременном отношении; просто в пороговый момент Крещенского промежутка при особых обстоятельствах и при соблюдении строгих правил с ней возможен более тесный контакт. В образе Сюндю, без сомнения, прослеживается древний культ предков, культ умерших. Об этом говорят и производные от Syndy плачевые syntyzet, т. е. умершие родичи, и сам Suurisyndy – возможно, Великий предок, Великий прародитель. С проникновением в быт карелов православия, охристианизировались и эти древние персонажи, один из которых стал больше соотноситься с Рождеством, рождением Христа, а другой – с Крещением. Хотя, безусловно, сами православные, и шире – христианские священники соотносили эти языческие персонажи с антиподом христианского Бога – дьяволом, чертом, бесом.
Интересным представлялось бы краткое сопоставление карельских святочных образов и духов-хозяев воды с русскими шуликунами[206], якутскими сюллюкунами, и коми suleikin, водяными духами[207]. Считается, что в сакральные святочные дни (у русских это «святые дни», а, к примеру, у болгар «погани дни, нечисти дни», у сербов и хорватов «nekresteni дни», т. е. «некрещеные дни») вся нечистая сила оказывается на свободе. Она, с одной стороны, особо опасна для людей в этот промежуток времени, а с другой – именно в это время с ней можно вступать в непосредственный контакт, при этом строго соблюдая особые правила. В карельской мифологической прозе есть сюжеты, в которых говорится, что в Святки ходят слушать водяного (357). В это время можно «поднять» русалку из проруби, и она может дать ключи счастья избранному ею (чаще это хромоножка), а остальных могут спасти только вовремя одетые на голову горшки из-под молока (356). В таких сюжетах происходит явное наложение друг на друга двух разных образов: хозяев воды, которые наиболее активны летом, и Крещенской бабы, появляющейся в земном мире лишь в короткий промежуток от Рождества до Крещенья.
Н. И. Толстой считал, что слово «шуликун» (как и коми suleikin) произошло от праславянского sujb «левый, плохой, нечистый» плюс суффикс – ун (как в словах: колдун, шатун)[208]. Д. К. Зеленин назвал его «водяным демоном»: «Шуликуны всегда представляются не в одиночестве, а группами или семьями, они живут вообще в воде, но зимою, на святках, выходят из воды на сушу… Таким образом, шуликун оказывается, в сущности, зимним демоном, поскольку о летнем его поведении почти нет никаких поверий, и летом он как бы не существует»[209].
Они всегда маленького роста, любят играть в куклы, держатся гурьбой и проказят. У белорусов есть поверье, что умерших некрещеных детей с 25 декабря по 6 января отпускают из ада погулять на землю, а необычных существ чаще всего видят на перекрестках дорог, где хоронили некрещеных детей, или у проруби. Значит, делал вывод Д. К. Зеленин, шуликуны – это «заложные покойники – дети, умершие в раннем детстве». А поскольку они все время живут в воде, значит, они дети водяных духов-хозяев[210]. У карелов же существует поверье, что все утонувшие поступают во власть водяного, и сами становятся его детьми, водными жителями. Таким образом, понятно, почему именно русалка (т. е. тоже заложная покойница) в карельских былинках в Святки выходит из воды.
Вообще для понимания причины появления водных жителей именно в Святки большое значение имеет описанный Д. К. Зелениным праздник Крещения у вотяков, которые называют его вожо-келян, т. е. изгнание водяных. «Вотяцкие водяные (вожо, вумурт) перед праздником Рождества Христова появляются в деревнях и живут в банях; иногда в сумерки их можно встретить на улице, почему вотяки боятся в это время в одиночку выходить на улицу без огня. После Крещения водяные духи снова уходят в свои подводные места жительства, почему праздник Крещения зовется у вотяков „изгнание водяных“, вожо-келян. В этот день молодые вотяки с горящими факелами в руках ходят из дома в дом (машут факелами), прислушиваясь к звукам, предвещающим будущее, и кричат по адресу водяных: „уходи от нас!“. В некоторых местах вотяки в этот день приносят жертву реке, кидая в воду хлебец, ложку каши, кусочек мяса, иногда утку, причем говорят: „Река, будь милостива. В положенное время мы приняли к себе вожо, храни нас от всяких болезней и несчастий“»[211].
Таким образом, Д. К. Зеленин делает вывод, что древние рыболовы «в анимистическую эпоху… представляли весеннее половодье и наводнения как выход водяных духов на сушу. Умилостивляя водных духов-хозяев жертвами, рыболовы стали одновременно ухаживать за их детьми, соблазняя пораньше выйти на землю и предлагая им разные увеселения… В связи с выходом шуликунов на землю гадали сначала о предстоящем ледоходе, о состоянии воды и ходе рыбы в реке, а после стали гадать вообще о будущей судьбе… Свой любезный прием на суше водяных детей-шуликунов рыболовы ставили себе в большую заслугу перед духами – хозяевами рек и озер, выпрашивая у них за это разные блага»[212].
На основе карельского материала было бы трудно провести такую реконструкцию самого обряда и причин его возникновения, но, в общем, карельская мифологическая проза о хозяевах воды частично подтверждает вывод Д. К. Зеленина.
О. А. Черепанова относит слово шуликун к ряду тех, чьи семантические и генетические связи неясны. При этом она высказывает предположение о заимствовании лексемы именно из финно-угорских языков, возможно из коми suleikin. Обосновывает она это тем, что, во-первых, образ шуликуна встречается только на тех территориях, где русские контактировали с финно-угорским и тюркским населением (север европейской части России, Поволжье, Сибирь). Во-вторых, он не находит полного типологического соответствия в славянском и европейском фольклоре: святочные персонажи (Святиха, Берхта и т. и.) никак не связаны с водной стихией, а кулиши, шолошны имеют неславянское происхождение[213].
На наш взгляд, наиболее яркая связь прослеживается между русскими шуликунами, якутскими сюллюкюнами и карельскими святочными образами Крещенской бабы и Сюндю, в которых сохранились элементы водной хозяйки, Матери Воды.
Сходство между персонажами трех народов в том, что, во-первых, это все святочные образы, т. е. появляются в период с 25 декабря по 6 января (по старому стилю). Во-вторых, существует множество общих запретов на этот промежуток времени, чтобы не обидеть данных существ: не прясть, не делать грязную работу, не полоскать белье в реке и т. д. В-третьих, якуты, как и карелы, связывают с сюллюкунами святочные гадания у проруби, при этом так же очерчивают вокруг гадающих круг и слышат примерно то же самое: к смерти – стук топора, к сватовству – лай собаки. В-четвертых, оберегами от них являются предметы, связанные с огнем: горящие факелы, ожиг (т. е. палка, которой мешают угли в печи). В-пятых, появляются все эти персонажи у проруби и на перекрестках дорог. В-шестых, шуликунов, как и Крещенскую бабу, и сюллюкюнов, очень боятся (что в меньшей степени свойственно более христианизированному образу Сюндю). И в-седьмых, все они появляются из воды (опять же кроме Сюндю, спускающегося с неба).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1"
Книги похожие на "Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Людмила Иванова - Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1"
Отзывы читателей о книге "Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1", комментарии и мнения людей о произведении.