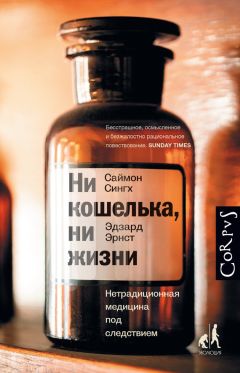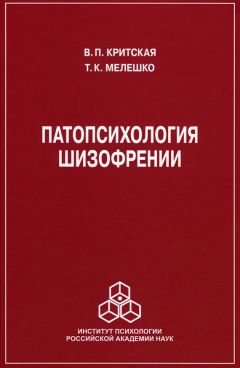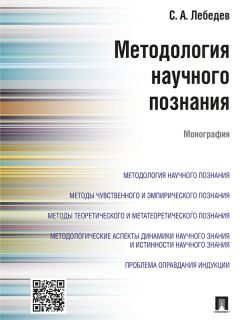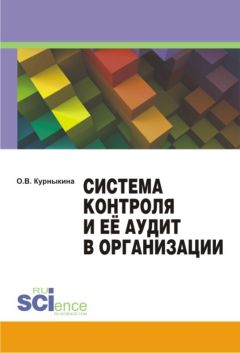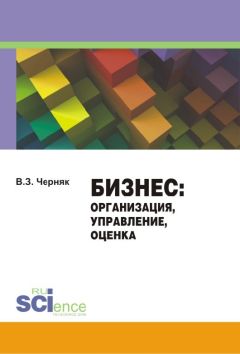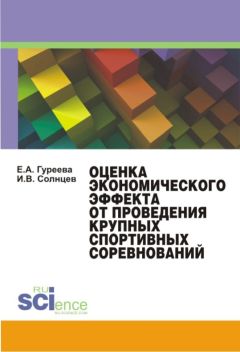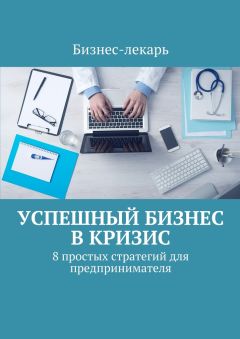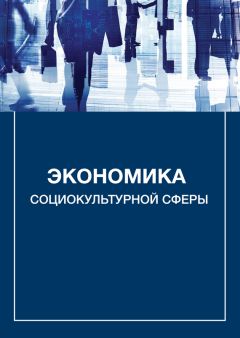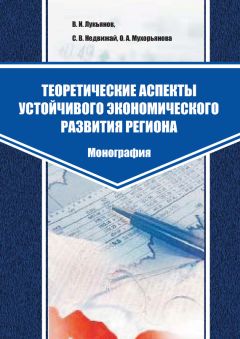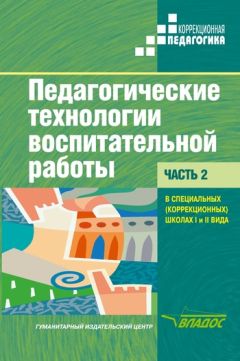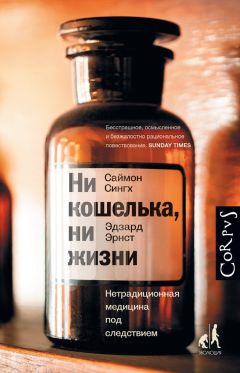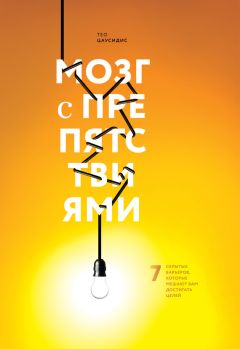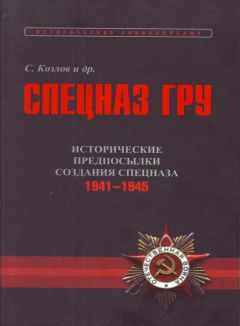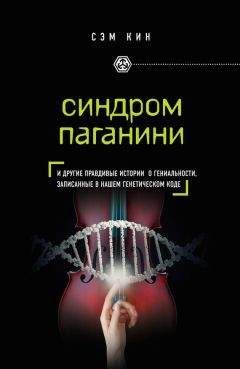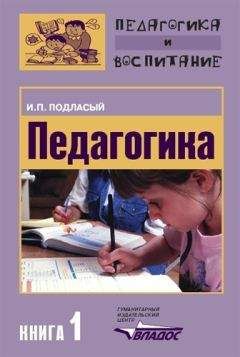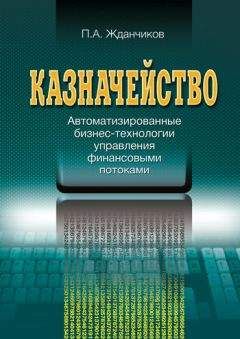Джиллиан Тетт - Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе
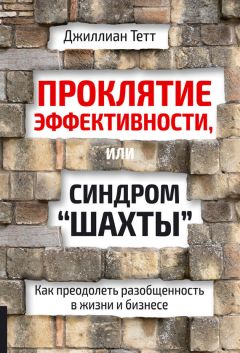
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе"
Описание и краткое содержание "Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе" читать бесплатно онлайн.
Синдром «шахты», или «силосной башни» (the silo efect), волнует бизнес-сообщество уже не одно десятилетие. Усложнение организационной структуры, сужение специализации подразделений и сферы деятельности их сотрудников может привести к размытости общей стратегии компании и забвению ее основной цели. Эта проблема впервые была обозначена как дивергенция целей организации и описана такими социологами, как Г. Саймон и Ф. Селзник.
Шеф-редактор газеты Financial Times Джиллиан Тетт в предлагаемой читателям книге определяет синдром «шахты» более широко – как «любое строгое разделение функций, полномочий и представлений», в том числе взглядов и установок. Отвечая на вопрос, неизбежно ли возникает эта проблема при развитии организации, автор книги переводит анализ в русло социальной и культурной антропологии и предлагает нетривиальные бизнес-решения.
Книга адресована самому широкому кругу читателей, поскольку автор не только обращается к исследованию синдрома «шахты», но и дает примеры его успешного преодоления во всемирно известных организациях.
К концу 1950-х годов предприятие Ибуки и Мориты изменилось до неузнаваемости. Выручка превысила 2,5 млн долларов США, и в нем было задействовано 1200 человек. Набирая обороты, компания расширяла ассортимент продукции. Первоначально Sony сфокусировалась на производстве радиоприемников и магнитофонов. В 1960-х годах она разработала новаторский кинескоп Trinitron, применив новый метод проецирования цветного изображения на экран телевизора. Затем наступил черед бытовых видеомагнитофонов и видеокамер. Тем не менее самым знаменитым продуктом компании стал плеер Walkman.
«Мысль создать этот стереопроигрыватель появилась, когда однажды Ибука притащил в мой кабинет один из наших портативных стереомагнитофонов и пару наших наушников стандартных размеров, – вспоминал Морита[183]. – У него был несчастный вид, и он пожаловался на то, что таскать это очень тяжело… [поэтому] я сказал нашим инженерам, чтобы они взяли один из наших надежных портативных кассетных магнитофонов, которые мы называли Pressman, вынули из него устройство для звукозаписи и громкоговоритель и заменили их стереоусилителем. Я назвал другие детали, которые мне были нужны, в частности очень легкие головные телефоны, которые оказались одной из самых трудных деталей в проекте Walkman». Сначала персонал Мориты посчитал, что он сошел с ума; никто не верил, что магнитофон можно продавать без записывающего устройства. Некоторые сотрудники невзлюбили название Walkman, потому что оно грешило против грамматики. «Я считал, что мы создали потрясающий продукт, и был полон энтузиазма. Но наши специалисты по сбыту вовсе не были в восторге», – признавал Морита.
Группа инженеров основательно обсуждала эту идею, подключив к дискуссии всю компанию. Впервые с момента зарождения корпорации в подвале разбомбленного токийского универмага Морита и Ибука гордились тем, что их детище стало местом свободного творческого «мозгового штурма». Тем не менее Морита и Ибука не были настроены долго дискутировать. Они доверились своей интуиции. В 1979 году кассетник поступил в продажу[184] и покорил рынок: за несколько лет было продано больше 20 млн устройств. «Я не верю, что какие-то исследования рынка могли бы подсказать нам, что Sony Walkman будет иметь сенсационный успех, который превзойдет все ожидания и породит множество подражателей, – рассказывал Морита. – И все же этот крошечный предмет в буквальном смысле слова изменил привычки в слушании музыки у миллионов людей во всем мире»[185].
В конце 1990-х годов, спустя четыре долгих десятилетия после того, как Морита и Ибука осуществили свой предпринимательский эксперимент в разрушенном токийском универмаге, и через двадцать лет после завоевания рынка инновационным плеером Sony Walkman, в компании появился новый президент и генеральный директор – Нобуюки Идеи. Его назначение знаменовало собой большой сдвиг. До начала 1990-х годов Ибука и Морита успешно управляли компанией. Однако в 1992 и 1993 годах, с разницей в несколько месяцев, оба руководителя перенесли инсульт и (соответственно в 1997 и 1999 годах) умерли в одной и той же больнице. Потеряв способность говорить, они часами в тишине сидели в инвалидных креслах друг подле друга, держась за руки.
Но вернемся в штаб-квартиру Sony: в 1982 году компания объявила, что место рулевого займет Норио Ога[186], протеже Мориты. В 1989 году Ога занял пост генерального директора, но, как это часто бывает в Японии, формальное звание еще не означает реальной власти. Хотя Морита как будто бы и ушел в отставку, он по-прежнему, пока мог говорить, оказывал огромное влияние на Sony.
Только после того, как Морита окончательно утратил дееспособность, власть перешла к Оге. Внешнему миру он представлялся яркой и харизматичной личностью. Он был не только опытным инженером, но и профессиональным концертирующим пианистом[187]. И все же популярным он не стал. Ога пришел в Sony когда компания столкнулась с трудностями. В начале 1980-х годов Запад поразила рецессия, приведшая к падению потребительского спроса на электронные товары. Корпорация ответила снижением цен и инвестированием в новые исследования. Такая стратегия привела к уменьшению прибыли и росту задолженности.
Ога понимал, что ему нужно сделать предприятие более динамичным. Но он столкнулся с проблемой, стоящей практически перед каждой успешной компанией: ее размерами. В 1950-х и 1960-х годах Sony была сплоченной, относительно небольшой, с гибким управлением компанией. К концу 1990-х годов в корпорации работало 160 тыс. человек, а ее деятельность простиралась от производства радиоприемников, телевизоров и компьютеров до производства фильмов, страхования жилья, а также выпуска знаменитых плееров Walkman. Маленькая, крепко спаянная фирма превратилась в непомерно разросшегося неповоротливого гиганта-бегемота. Ога решил использовать все свое влияние для того, чтобы скрепить компанию, и провозгласил новый курс. Придерживаясь автократического стиля управления, он не боялся смелых решений. Так, в начале 1990-х годов несколько инженеров Sony выступили застрельщиками идеи создания игровой консоли. Они предложили назвать ее PlayStation. Первоначально, как и в случае с Walkman, внутри компании идею встретили с большим недоверием. Но Ога пренебрег им. «Ога… невзирая на все возражения, настоял на выходе на этот совершенно новый для фирмы рынок, – отметил корейский бизнес-аналитик Си Джин Чанг[188] в своей фундаментальной монографии о корпорации Sony. – Он часто говорил: „Вклад Ибуки в успех Sony – это телевизор Trinitron, вклад Мориты – Walkman, а мой вклад – PlayStation“»[189]:[190].
Этот автократический подход вывел Sony на новые позиции, но внутри компании вызвал серьезное недовольство. И Нобуюки Идеи, тот, кто через пару лет стал преемником Оги, был уже человеком из другого теста. В отличие от отцов-основателей, Идеи не имел инженерного образования. Его карьера складывалась в сфере корпоративного управления Sony. Идеи не был, как Оги, автократом и предпочитал стиль руководства, основанный на консенсусе. Вникнув в проблемы Sony, он убедился, что лучший способ справиться с разрастанием и усложнением корпорации – разделить ее на специализированные, самостоятельные подразделения, или, как любят их называть консультанты по менеджменту, «шахты»[191].
Следует отметить, что отчасти на это решение Идеи вдохновил опыт швейцарского гиганта Nestlé. Идеи входил в правление этого кондитерского и продуктового исполина и обратил внимание на особый подход Nestlé к управлению компанией. После Второй мировой войны на протяжении десятилетий большинство транснациональных компаний представляли собой гигантские бюрократические монополии, работавшие как единая сеть. Но к 1990-м годам в западных бизнес-школах утвердился новый тип или стиль мышления. Консультанты по вопросам управления и эксперты убедились, что крупными компаниями лучше управлять не как единой сетью, а как совокупностью отдельных, автономных, подотчетных подразделений. Предполагалось, что принцип построения и специализация управленческого про цесса по функциональным подсистемам организации («шахтам») способствуют большей прозрачности, ответственности и эффективности компании. Nestlé блестящим образом воплотила эту идею. В 1990-х годах швейцарский продовольственный гигант провел программу реструктуризации, придавшую каждому подразделению – скажем, по производству жевательной резинки или шоколада, – статус отдельного предприятия с самостоятельными отчетами о прибылях и убытках (P&L). Руководство по-прежнему отвечало за достижение конкретных задач по прибыли, рентабельности и продажам. Управление собственными инвестициями, успехи или неудачи легко прослеживались, так как каждое подразделение имело отдельный бухгалтерский баланс. Такой подход не редкость в финансовом мире, где крупные банки в лондонском Сити или на Уолл-стрит исповедуют философию трейдеров и брокеров: «Eat what you kill»[192]. Nestlé была одной из первых компаний, решительно перенесших этот принцип в мир потребительских товаров. Идеи (и всему правлению Nestlé) казалось, что метод хорошо работает.
Итак, Идеи убедил высшее руководство Sony в необходимости реорганизовать компанию аналогичным образом. В 1980-х годах Sony функционировала как единая корпоративная единица, разделенная на девятнадцать продуктовых подразделений. В 1994 году Sony была преобразована в так называемую систему отдельных компаний, сгруппированных по восьми автономным направлениям: Consumer А&V (бытовая аудио- и видеотехника); Components (комплектующие); Recording Media & Energy (носители записи); Broadcast (широковещательные сети); Business & Industrial Systems (промышленные и бизнес-системы); InfoCom (информационные технологии и коммуникации); Mobile Electronics (мобильные электронные устройства) и Semiconductors (полупроводники). В то же время игровой, музыкальный, страховой и кинобизнес получили даже больше независимости и стали работать как отдельные предприятия-сателлиты. Новая система не была в чистом виде воплощением философии банков на Уолл-стрит «Eat what you kill», поскольку зарплата японского персонала устанавливалась в масштабах всей корпорации, независимо от прибыли, получаемой подразделениями. Однако у каждой из этих «компаний» был собственный топ-менеджмент, работу которого оценивали на основании показателей P&L конкретного подразделения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе"
Книги похожие на "Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Джиллиан Тетт - Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе"
Отзывы читателей о книге "Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе", комментарии и мнения людей о произведении.