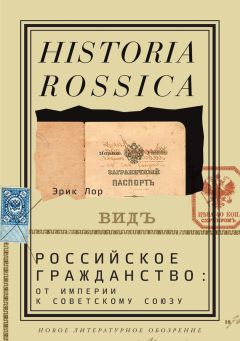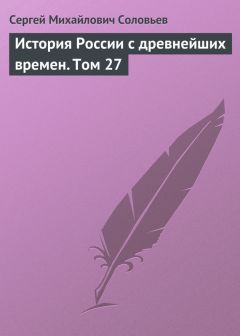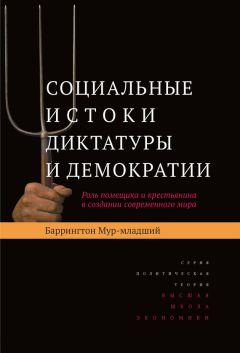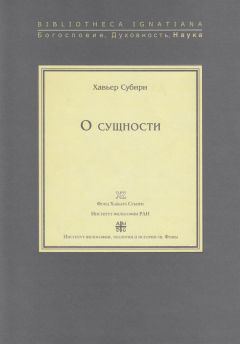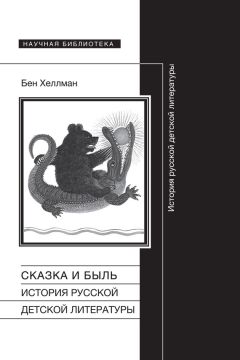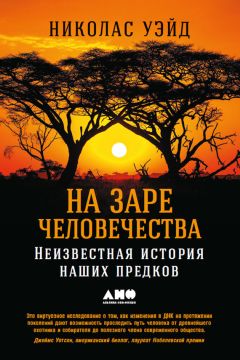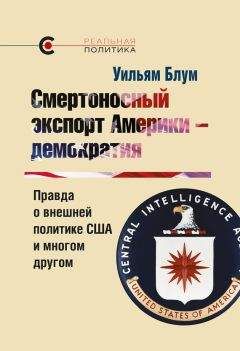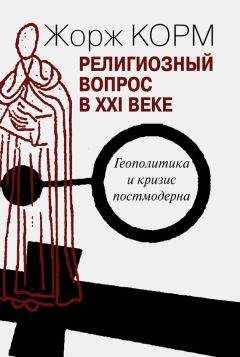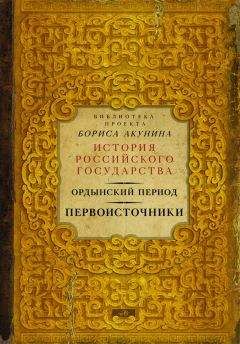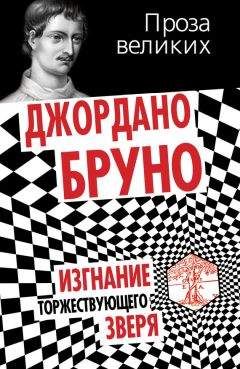Мария Рубинс - Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма"
Описание и краткое содержание "Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма" читать бесплатно онлайн.
Эта книга – о роли писателей русского Монпарнаса в формировании эстетики, стиля и кода транснационального модернизма 1920–1930-х годов. Монпарнас рассматривается здесь не только как знаковый локус французской столицы, но, в первую очередь, как метафора «постапокалиптической» европейской литературы, возникшей из опыта Первой мировой войны, революционных потрясений и массовых миграций. Творчество молодых авторов русской диаспоры, как и западных писателей «потерянного поколения», стало откликом на эстетический, философский и экзистенциальный кризис, ощущение охватившей западную цивилизацию энтропии, распространение тоталитарных дискурсов, «кинематографизацию» массовой культуры, новые социальные практики современного мегаполиса. Претворив травму изгнания, маргинальность и отчуждение в источник вдохновения, они создавали гибридную прозу в переходной зоне между разными национальными традициями, канонами и языками. Прослеживая диалог их произведений и ключевых западных интертекстов, Мария Рубинс выявляет неочевидные на первый взгляд эстетические и концептуальные параллели между творчеством Газданова и Гессе, Немировски и Морана, Г. Иванова и Элиота, Одоевцевой и Кокто, Шаршуна и Бретона, Яновского и Г. Миллера, Бакуниной и Лоуренса, а также между приемами ар-деко в литературе и живописи, фотографиями Брассая и «парижским текстом» русских эмигрантов, режиссерскими стратегиями Лербье и поэтикой Газданова. Русский Монпарнас, таким образом, предстает полноправным участником общеевропейского литературного процесса межвоенных десятилетий, во многом предвосхитившим более поздние тенденции к диаспоризации и глобализации культуры.
[Е]го удивительная книга принадлежит к тем, которые в русском сознании сразу воспринимаются как нечто «свое» […] дело, по-видимому, в подчеркнутой правдивости, в тоне, родственном русскому стремлению непременно говорить о «самом важном» и в каком-то пренебрежительном отношении ко всему, что не может быть под категорию «самого важного» или «самого правдивого» подведено[65].
Говоря о романе Селина в «Числах», Лазарь Кельберин называет его «свидетельством об аде», но об аде внутреннем. Возможно, потому, что его взгляды на литературу по-прежнему во многом обусловливались русской гуманистической традицией, Кельберин пытается отыскать у Селина здоровую нравственную основу: «любовь к жизни заставляет его отвергнуть все так называемые высшие ценности, во имя которых люди жизнь уничтожают». Полемизируя с теми, кто обвинял Селина в полном нигилизме, Кельберин продолжает: «Селин ничего о мире, как таковом, не утверждает, он говорит лишь о том, как представляется мир его герою, и не его вина, если герой его в аду и смотрит на мир из ада»[66].
К Селину эмигранты неизменно обращались, когда разговор заходил о современной литературе. В статье, посвященной Кэтрин Мэнсфилд, М. Кантор попутно отмечает, что Селин представил жизнь послевоенного поколения как «бессмысленное, безобразное месиво»[67]. Петр Бицилли проводит на первый взгляд неожиданную параллель между Селином и Сириным, указывая, что Селин, в отличие от Набокова, не сумел создать иллюзию реальности. Бицилли сравнивает «двойника» Бардамю Робинсона с Германом из «Отчаяния», а самого Бардамю – с Цинциннатом из «Приглашения на казнь», «вечным затворником, для которого жизнь сводится к ненужной и бессмысленной отсрочке смерти»[68].
Особый, характерный для русского Монпарнаса тип экзистенциализма явственно формировался под знаком Селина, как в стилистическом, так и в метафизическом смысле[69]. Главным претендентом на роль «русского Селина» нередко называли Василия Яновского[70]. Яновский, как и Селин, получил медицинское образование и, возможно, поэтому был склонен к физиологизму в поэтике, перенося в свои произведения мрачные впечатления, почерпнутые в парижских операционных и моргах. Его рассказы «Розовые дети» и «Рассказ медика», равно как и роман «Портативное бессмертие», особенно напоминают манеру Селина. Впрочем, много лет спустя Яновский отрицал непосредственное влияние на него французского писателя[71], да и действительно, несмотря на наличие стилистических и тематических параллелей, его творчество, в отличие от творчества Селина, основывалось на стремлении отыскать пути преодоления физического распада, возрождения духовности и даже создания новой всеобщей религии.
Интертекстуальные отсылки к Селину встречаются во многих текстах младоэмигрантов, в том числе в романах Оцупа, Бакуниной и Газданова. Так, ночь как метафора состояния современного человека и эвфемизм смерти превратилась в межвоенной литературе в клише, к нему прибегали даже некоторые франкоязычные авторы русской диаспоры, которые работали в жанре чистой беллетристики. Ирен Немировски, например, поначалу хотела назвать свой роман «Собаки и волки» «Дети ночи». Название книги Газданова «Ночные дороги» явно перекликается с «Путешествием на край ночи» – подчеркивая, что речь идет о мрачном, апокалиптическом состоянии мира и человеческой души. Мотив разложения материи и духа – он особенно явно звучит у Г. Иванова в «Распаде атома» – можно проследить до рассуждений Бардамю о естественном распаде молекул, в котором проявляется общая тенденция к энтропии.
Представители русского Монпарнаса воспринимали роман Селина как образец человеческого документа, идеальную форму для передачи экзистенциального опыта послевоенного поколения и его социальной маргинальности. Однако культ маргинальности, столь характерный для транснационального канона, молодыми русскими эмигрантами был переосмыслен как механизм сопротивления основному нарративу русской культуры, с его представлением о писателе как учителе, пророке, духовном и нравственном авторитете. Вместе с тем их взгляд на себя как на неудачников и солипсическая сосредоточенность на собственных внутренних травмах стали, парадоксальным образом, жестом протеста против культурной политики диаспорального мейнстрима, которая строилась на риторике национального возрождения и коллективной «миссии». Таким образом, маргинальность была переосмыслена как эффективная стратегия, применимая в контексте культурных перемен, эволюции и самоопределения литературного поколения[72].
Поэтика маргинальностиПозиция маргинальности, которую сознательно заняли представители русского Монпарнаса, проявлялась в демонстративном неприятии славы, признания и контакта с читателями. Для Бориса Поплавского, неформального лидера своего поколения, самая желанная человеческая судьба выглядела так: «быть гением и умереть в неизвестности»[73]. Пользуясь формулой «письмо в бутылке», он провозгласил литературу «частным делом», а искусство в целом – «частным письмом, отправленным по неизвестному адресу»[74]. Илья Зданевич (Ильязд), в полной мере разделявший эти взгляды, заявлял: «Книга не должна быть написана, чтобы быть прочитанной. Прочитанная книга – это мертвая книга»[75]. В статье «Для кого и для чего писать» Екатерина Бакунина утверждает: «…я не считаю себя писателем», поскольку, согласно традиционным критериям, писатель творит, чтобы быть услышанным. В нынешние же времена писатель «начинает писать ни на что не надеясь, зная, что голос звенит в пустоте […] спрос на литературу упал […] человек сам с собой говорит – пишет». Таким образом, функция литературы сводится, по ее мнению, к тому, чтобы как-то осознать «смысл рождения» и «насилие смерти»[76].
Молодые писатели-эмигранты определяли свое творчество как форму самовыражения, как сокровенный монолог, не имеющий определенного адресата, и тем самым отказывались от понятия профессионализма в литературе. Отвечая на вопросы анкеты в «Числах», Поплавский пояснял: «Но только бы выразить, выразиться. Написать одну голую мистическую книгу, вроде “Les chants de Maldoror”, и затем assomer несколько критиков и уехать, поступить в солдаты или в рабочие»[77]. Как отмечает Каспэ, подобный риторический жест заставлял подразумеваемого читателя «играть в прятки и, вразрез со своим непосредственным эмпирическим опытом, рассматривать текст как “закрытый”, “запечатанный” и “принадлежащий будущему”»[78].
Облекая металитературную тематику в сочетании с джойсовской сосредоточенностью на частном человеке и экзистенциальным дискурсом[79] в обновленную модернистскую форму человеческого документа, авторы русского Монпарнаса систематически выступали против вымысла в литературе. В статье «О Джойсе» Поплавский восклицает: «С какою рожею можно соваться с выдумкой в искусство? Только документ»[80]. Георгий Адамович, ментор русского Монпарнаса, выступил в защиту человеческого документа в целой серии статей: «Человеческий документ» (1933), «Жизнь и жизнь» (1935), а также в «Литературной неделе», колонке, которую он вел в «Иллюстрированной России».
Жанр этот представлял собой удобную канву для размышлений о насущных вопросах человеческого существования (смерть, смысл жизни, судьба, болезнь, духовные страдания, одиночество), которые профильтровывались через личный опыт автора и, как правило, излагались от первого лица. Субъективность, интроспекция и акцент на функции текста как свидетельства привели в межвоенной литературе к иной модели саморепрезентации автора по сравнению с классической традицией:
Полвека тому назад, и даже еще сравнительно недавно, автор обычно говорил о себе во множественном числе «мы», – стремясь обезличиться; в большинстве теперешних книг условное авторское «мы» невозможно, – наоборот, автор кричит «я», подчеркивает «я», или рассказывает о себе и о своих героях такие вещи, при которых уклончиво-сдержанное множественное число звучало бы фальшью и бессмыслицей[81].
В своем обзоре эмигрантской литературы ему вторит Петр Балакшин:
Литература теперь так автобиографична, как не была никогда. Старый подход к рассказу не удовлетворяет больше писателя. Он и читатель одинаково богаты впечатлениями, перед глазами каждого прошли тысячи событий и лиц, и ни рождественским мальчиком, ни бедной Лизой, ни даже Леоном Дреем уже не захватить читателя, да и писатель не хочет писать о них. Единственно вечными и бессменными остаются человеческие чувства, в них заглядывает писатель, ищущий постоянства. Средоточием чувств является «я», и оно утверждается в литературе. Отсутствие темы вообще характерно для нашего века. Романы со слабо развитой фабулой занимают место рушащихся грандиозных развязок[82].
Это «я», помещенное в текст человеческого документа и обусловливающее индивидуализированную точку зрения, также является и главным героем; тем самым субъект и объект повествования становятся неотделимыми друг от друга. В статье «О “герое” в молодой эмигрантской литературе» Владимир Варшавский называет современным литературным героем «голого» человека, то есть находящегося, в социальном смысле, в полной пустоте, нигде и ни в каком времени, устраненного из истории[83]. Полностью лишенные внешних связей, «Гамлеты» эмиграции неизбежно обращались к своему «внутреннему я». Так, главную причину появления столь многочисленных «дневников, признаний и записок» Адамович видит в социальной изоляции этого поколения, в камерности литературной интонации:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма"
Книги похожие на "Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мария Рубинс - Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма"
Отзывы читателей о книге "Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма", комментарии и мнения людей о произведении.