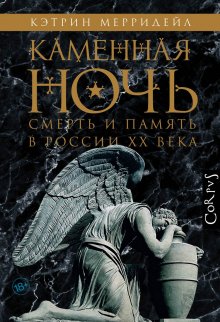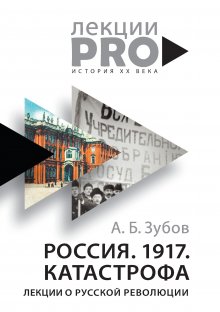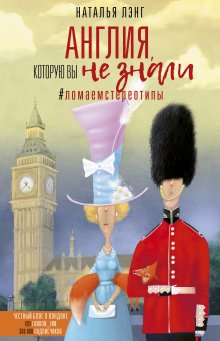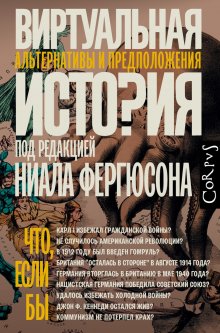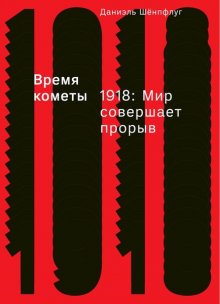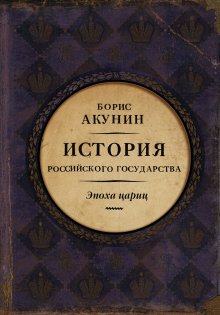Саймон Себаг-Монтефиоре - Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви
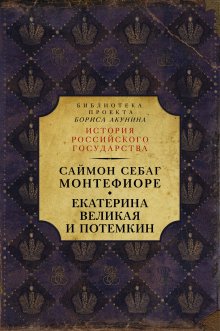
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви"
Описание и краткое содержание "Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви" читать бесплатно онлайн.
Он раздавал обещания направо и налево и слыл «сладкоязычным, милостивым и мягкосердечным русским царём». Он показывал народу «царские отметины» на теле, чтобы убедить простых озлобленных людей в том, что обладает стигматами, которые, как они верили, отличают подлинного помазанника Божия. Он обещал им «земли, воды, леса, дома, травы, хлеба, реки, рыб…» и всё, что только смог придумать.
Многие не устояли против этого поразительно щедрого политического заявления, особенно среди яицких казаков. Казачество представляло собой воинские общины, состоявшие из вольного люда, бездомных странников, беглых преступников и крестьян, еретиков, дезертиров, разбойников, в которых смешалась татарская и славянская кровь. Они бежали на приграничные территории и собирались в вооружённые конные банды, пробавлявшиеся грабежами и кражами и разводившие лошадей. Каждое казачье войско – Донское, Яицкое, Запорожское, их польские и сибирские собратья – создало свою собственную культуру, но все они так или иначе управлялись посредством простейшей прямой демократии, свойственной обществам фронтира, а в военное время избирали кошевого, или атамана.
На протяжении нескольких веков казаки сохраняли нейтралитет, заключая союзы с Польшей, Литвой или Швецией против московских властей или с Россией против крымского хана или османского султана. В XVIII веке они также грабили русских, как и турки, однако Россия нуждалась в них для охраны границ и пополнения рядов лёгкой кавалерии. Как бы то ни было, напряжённые отношения Русского государства и казачества со временем усугублялись. Казаков тревожили их собственные трудности: они опасались, что им придётся стать частью регулярной русской армии с её суровой муштрой и сбрить бороды. Яицкие казаки более других были озабочены недавними нововведениями, касавшимися рыбной ловли. Год назад они взбунтовались, и восстание было жестоко подавлено. В довершение всего Русско-турецкая война шла уже пятый год, и военные расходы (людские и денежные) в основном ложились на плечи крестьянского населения. Этим людям очень хотелось поверить в своего отощавшего «Петра III».
Пугачёв сумел поджечь эту пороховую бочку. На Руси всё ещё сохраняла свою силу традиция самозванства. В Смутное время в XVII веке Лжедмитрий I даже взошёл на московский престол. В огромной необразованной стране цари считались всемогущими и всеблагими, и простой народ верил, что государь – это ставленник Божий; одним из ярких персонажей русского фольклора[26] был образ милосердного, христоподобного царя, что бродит меж людьми и вдруг является, чтобы их спасти. Это было не так уж удивительно: в Англии тоже были свои самозванцы, например, Перкин Уорбек, в 1490 году выдававший себя за Ричарда, герцога Йоркского, одного из «принцев в Тауэре».
Самозванство было привлекательно для определённого типа людей – скитальцев, дезертиров, староверов, живших на приграничных землях, иными словами, изгоев, которые объявляли себя недавно погибшими или свергнутыми монархами. Такой монарх в действительности должен был править достаточно короткий срок, чтобы сохранить иллюзию того, что если бы не происки дворянства и чужеземцев, он мог бы спасти простой народ. Поэтому Пётр III был идеально подходящим кандидатом. К концу правления Екатерины насчитывалось уже двадцать четыре псевдо-Петра, но ни один из них не приблизился к успеху Пугачёва.
Впрочем, среди них был ещё один успешный самозванец: Лже-Пётр, царь Черногории. В 1769 году, в самом начале войны, когда русский флот подошел к Балканам в надежде поднять здешнее православное население против турок, Екатерина велела Алексею Орлову отправить посланника в далекую балканскую страну Черногорию, которой правил бывший целитель, вероятно, итальянского происхождения, по имени Стефан Малый. Стефан сумел объединить воинственные племена, выдавая себя за Петра III. Русский посол князь Юрий Долгоруков (тот самый, что впоследствии станет критиковать потёмкинские подвиги) с удивлением обнаружил, что этот черногорский Пётр III, кудрявый тридцатилетний человек с тонким голосом, в белой шёлковой тунике и красной шапке, правил страной с 1766 года. Долгоруков разоблачил шарлатана, но, будучи не в состоянии сам управлять Черногорией, вернул ему трон, в придачу удостоив его мундиром русского офицера. Стефан Малый правил Черногорией ещё пять лет, пока его не убили, и оказался одним из лучших государей, правивших в этой стране [4].
На следующий день после того, как Пугачёв объявил себя императором, к нему примкнули уже триста сторонников, завлечённых его коварным оппортунизмом, и отправились штурмовать российские крепости. Его армия росла. Так называемые крепости на самом деле были обычными деревнями, окружёнными деревянным частоколом; помимо ненадёжных казаков и роптавших крестьян там находился лишь маленький гарнизон сонных солдат. Их было не так уж трудно захватить. Понадобилось всего несколько недель, чтобы пламя восстания почти в буквальном смысле охватило юго-восточную границу России [5].
Пятого октября «Пётр III» со своей трёхтысячной армией и двадцатью пушками прибыл под стены Оренбурга, столицы края. Там, где они прошли, в павших крепостях и сожжённых поместьях лежали трупы дворян и офицеров, зачастую обезглавленных и с отрубленными руками и ногами. Женщин насиловали и забивали до смерти, мужчин часто вешали вниз головой. С одного грузного офицера бунтовщики живьём содрали кожу и вынули из него сало, чтобы мазать свои раны. Его жену изрубили на куски, а дочь забрал себе в наложницы «анператор» (потом её убили казаки, завидовавшие её особому положению).
Шестого ноября «анператор Пётр Федорович» учредил Военную коллегию в своём штабе в Берде под Оренбургом. Вскоре он уже носил шитый золотом кафтан и меховую шапку, его грудь была усыпана медалями, а его приспешники звались «граф Панин» и «граф Воронцов». В его штате были секретари, писавшие за него указы на русском, немецком, французском, арабском и турецком языках, судьи, поддерживавшие порядок в рядах его сторонников, командиры войск и дезертиры, умевшие стрелять из пушек. Его конная армия наверняка представляла собой поразительное, экзотическое и варварское зрелище: основную ее часть составляли крестьяне, казаки и тюркские всадники, вооружённые пиками, косами, луками и стрелами.
Когда в середине октября новости об этих событиях дошли до Санкт-Петербурга и до «дочери дьявола», Екатерина сочла их незначительным казацким восстанием и отправила для его подавления генерала Василия Кара с войском. В начале ноября Кар был разгромлен буйным полчищем повстанцев, которых оказалось уже 25 000 человек, и с позором бежал в Москву.
Эти первые успехи обеспечили Пугачёву репутацию, в которой он так нуждался. Когда он со своими головорезами входил в город, его принимали делегации священников с иконами в руках, народ звонил в колокола и молился о здравии «Петра III и великого князя Павла» (но, разумеется, не Екатерины).
В «Капитанской дочке», которую А.С. Пушкин писал, опираясь на исторические источники и беседы с очевидцами, читаем: «Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. ‹…› Казацкие старшины окружали его. ‹…› На площади ставили наскоро виселицу» [6]. Порой разбойники одновременно вешали до шестидесяти дворян. Есть сведения о том, что за каждого мёртвого дворянина полагалось вознаграждение в сто рублей, а за десять сожжённых домов – титул генерала.
«Император» обедал в особняке местного губернатора, часто в компании его охваченной ужасом жены и дочерей, в то время как сам губернатор висел на уличном столбе. Женщин казаки либо вешали, либо отдавали своему предводителю для утех. И хотя Пугачёва чествовали как государя, его обеды скорее напоминали казачьи пирушки. Пополнив ряды войск, захватив несколько пушек и местную казну, он отправлялся дальше, чтобы услышать новые колокольные звоны и молитвы [7]. К началу декабря Пугачёв осаждал Самару, Оренбург и Уфу. Его армия составляла почти тридцать тысяч человек, и к нему присоединялись недовольные со всего юга империи – казаки, татары, башкиры, киргизы и калмыки.
Пугачёв уже начал совершать ошибки: например, женитьба на любимой наложнице была не слишком уместна для императора, который, будь он и вправду жив, уже находился в законном браке с петербургской «дочерью дьявола». Так или иначе с наступлением декабря стало очевидно, что он представляет собой реальную угрозу для Российской империи.
Екатерина не случайно выбрала момент для письма Потёмкину. Она написала ему сразу же после того, как получила известия о том, что Пугачёв наголову разбил Кара. Это был уже не просто небольшой переполох – всё Поволжье восставало под предводительством человека, который оказался решительным и компетентным вождём. За пять дней до того, как Екатерина написала первое слово в письме Потёмкину, она повелела подавить мятеж генералу Александру Бибикову, подававшему надежды приятелю Панина и Потёмкина. Из политических соображений она нуждалась в ком-то, кто сохранял нейтралитет среди противостоявших друг другу придворных партий, служил лишь ей и мог бы стать её советником в военных вопросах. А в глубине души она тосковала по другу, в которого теперь была влюблена. Все эти долгие годы их странных взаимоотношений они были готовы сблизиться, но всё же оставались далеки друг от друга – как будто всё вело их именно к этому моменту.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви"
Книги похожие на "Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Саймон Себаг-Монтефиоре - Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви"
Отзывы читателей о книге "Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви", комментарии и мнения людей о произведении.