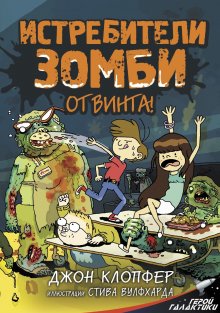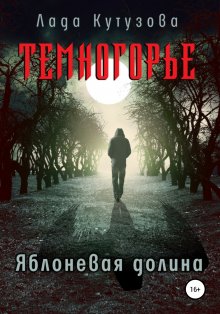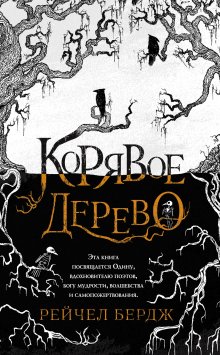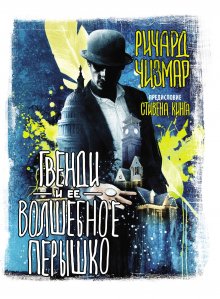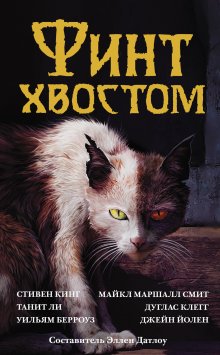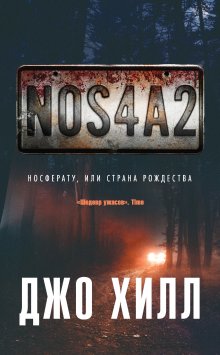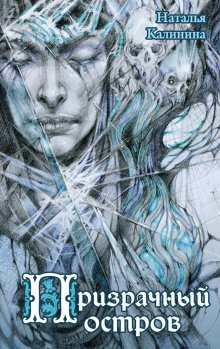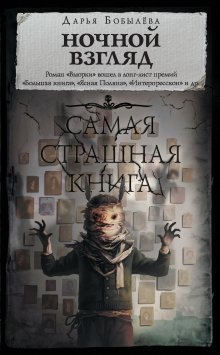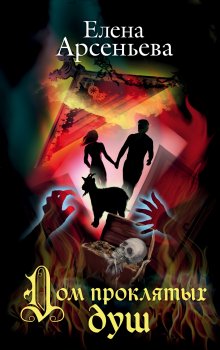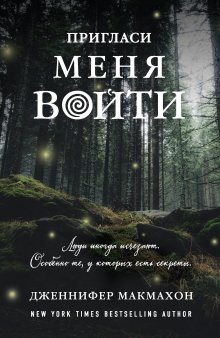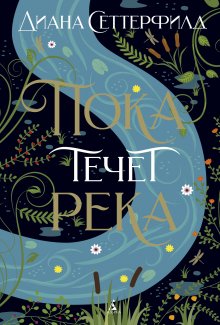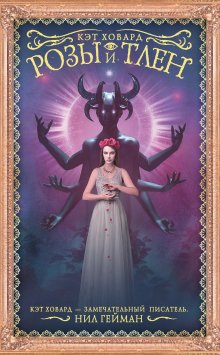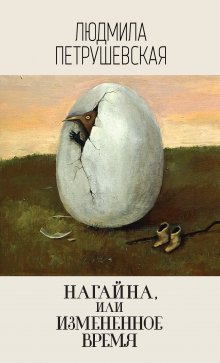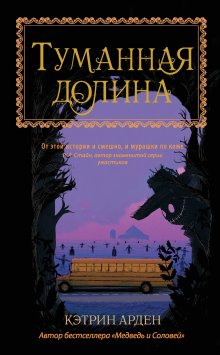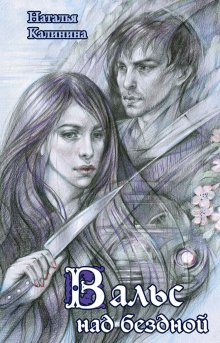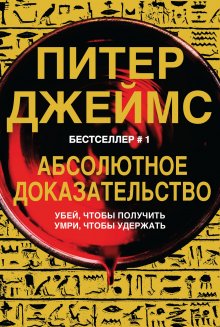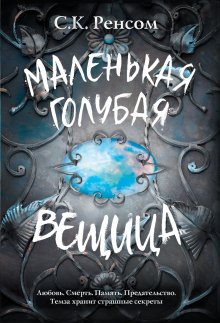Наталья Шунина - Троесолнца
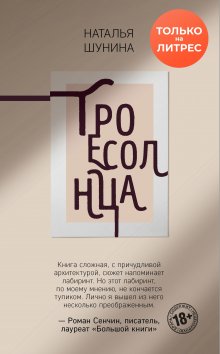
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Троесолнца"
Описание и краткое содержание "Троесолнца" читать бесплатно онлайн.
Внятно и цельно он обнаружил себя где-то через тридцать минут лежащим под яблоней. Помнится, после подворотен, где грязь по колено, и гаражей, где он студентом изобразил баллончиком Луначарского, он добрёл до парка, спустился к воде, потом зачем-то залез в одежде по колено в воду, прошёл вброд метров двадцать пять и поднялся, не снимая мокрых тяжёлых ботинок, к яблоне. Дерево, усыпанное душистыми спелыми плодами, которые краснели и на ветвях, и в траве рядом, поразило его больное воображение: будто бы должен он подойти, обнять ствол этого дерева, преисполненный благодарности и одухотворённости, и станет легче. Подойдя к яблоне, Нежин и впрямь лёг рядом, придавив телом несколько упавших сгнивших яблок, и погладил кору. Так он уснул, как будто куда-то провалился.
Проснулся через пять минут. Очнулся. Первым делом подозрительно «ощупал» реальность. Не ерунда ли опять вместо реальности?.. Вышло, что вроде бы и не ерунда, но всё-таки в воздухе витало что-то не то…Что-то фальшивое и пугающее летало в воздухе, будто он мог перевернуть всё, что видят его глаза, и увидеть задник, где заводскими буквами написано: «Точная копия реальности № 51/2». Наверняка с художником приключился бы очередной приступ этого «ощущенческого маразма», этого болезненного инакобытия, если бы он вдруг не вспомнил про яблоню, поразившую его в бреду.
Он прикоснулся горячим лбом к её прохладной древесной коре, шершавой и отчего-то родной, земной… Сердце забилось тише, ладнее. Возвращалось обыденное сознание, по которому он так соскучился и истосковался за всё это тлетворное, долгое время. Пусть оно человеческое, всего лишь человеческое и интересуется мелочами, ну и что с того? Ну и что с того? Оно же дано! Так, может, и есть оно благословение? Может, ничего страшного и не произошло?
Ещё полчаса Нежин просто валялся и смотрел кругом: на пасмурное седое небо в серебряных ручейках света, на траву и подгнившие красные яблоки, на реку широкую, судоходную, но казавшуюся отчего-то стоячей, умолкшей в тенях от деревьев. И всё прояснялось, светлело. На противоположном берегу плескались два таджика, крича на своём языке, взбираясь друг другу на плечи, прыгая с плеч, борясь и брызгаясь, они дурачились, как школьники, и так хохотали, что смех, приглушённый каким-то постоянным гудением, доносился до Нежина. Потом закрякали утки, забили трещотки, набежали весёлые обормоты и стали шарахать дубинками по золотому песку. Шарахали дубинками по золотому песку с возгласами настоящих, увенчанных лаврами воинов. Шарахали и шарахали на этом берегу и рядом с ним.
Полностью оклемавшись, он ощутил благодарность яблоне. Но тут же устыдился и высмеял себя – следом поморщился от смеха и так, помучившись с яблоней, очень постепенно стал мысленно возвращаться к сцене, разыгравшейся с Пашьяном, и всей длинной, запутанной, как прибрежная лебеда, предыстории со множеством нитей и лиц. Нити! О эти нити, и зачем он их выдумал! А корни истории оплетали лицо Кострякова, и диким семенем она разлеталась и прорастала на неведомых полях, застеленных дымкой времени, в каких-то кривых, постоянно изменчивых пространствах. И прошлое его, и настоящее, и будущее – всё было здесь, рядышком, под яблоней, и будто сама эта стройная яблоня светилась из прошлого и из будущего, точно была очевидицей всего и ею будет. И вот какую предысторию она засвидетельствовала.
Три года назад, когда Нежин ещё ни для кого ничего не писал за деньги и черпал ковшом из вод юности всякие экзальтированные и дерзкие идеи, Павел Артемьевич Костряков заказал ему роспись стены (чем этот скупой для нас набор слов явился для молодого художника, мы обозначим ниже). Для Кострякова же то намерение не было, как нынче модно, пустой стилистикой и сотрясением воздуха. «Древнеславянские мотивы», которые следовало воплотить в росписи, несли, по Павлу Артемьевичу, смысл исключительный. Были они далеко не просто зарисовками, декорацией а-ля рюс, а мироощущением и пропагандой ценности. Именно ценность являлась предметом похвалы и особенной радости заказчика (которую юный исполнитель поспешно относил на свой счёт), именно она вплотную подводила уже пожилого, растерявшего былое влияние, но видного и ещё известного в городке бывшего мэра к пониманию им своей новой роли в обществе, которую он жаждал хоть в чём-то сызнова обрести и уже не растерять. Задуманная роль, как и подобает человеку его положения, стажа и духовного интереса (и, смеем предположить, ввиду наличия оного он и не задержался надолго в политике), заключалась в прививании традиции и почтения к нашему общему истоку.
«Традиция тащит общественный порядок. Она-то и не даст нам всем стереться в пыль в этой глобализации», – думал Павел Артемьевич, сидя ясными ветреными вечерами с имбирным чаем и перетёртой морошкой у себя на крытой веранде. И становилось ему отчего-то хорошо. Было у него ощущение, что он не только размышляет над серьёзным предметом, но и будто грезит наяву – так легко и длинно текло его размышление, подобное вологодской реке, выносящее на поверхность, между прочим, не только его возможные в будущем увлечения (соблюдение календаря, составление стеллажей по теме, а позже открытие музея с артефактами), но и очень мудрые цитаты великих. Только имбирь его досадовал, если попадался на язык. И тогда разыгрывалась полемика с супругой Ольгой, случись ей оказаться поблизости, о свойствах и противопоказаниях чеснока.
Но важен не чеснок, а идеи. Ими упражнял свой ум Павел Артемьевич Костряков, несмотря на то, что ведическое славянство, это жестокое и тёмное праотцовство, пользовалось очень малой популярностью в их городке. Его уважали разве что среди небольшой горстки язычников, раздающих листовки, от которых честной народ шарахается, будто там споры сибирской язвы. И так как из Москвы, с повеления патриарха Кирилла, последовали указы об ужесточении наказаний для сектантов, а переписанный в парламенте заново закон «О сектах» после «эзотерических» 90-х расширял это понятие настолько, что туда рисковали попасть даже представители той безобидной горстки, Павел Артемьевич со своим новым и для многих неожиданным увлечением шансов имел мало. Особенно ввиду того, как крепко и деятельно разразилась дружба главнокомандующего и патриарха, сошедшихся на мессианской судьбе России и многих других высоких материях. От этого завязались узы и между чиновниками и священнослужителями, руководителями административных центров и митрополитами: посыпались проекты, бюджетные средства, замаячило духовное возрождение нации… И хоть со всем Костряков соглашался и всё приветствовал как избавление от тех же самых кашпировских, которые всё лечат и ораторствуют по всей стране, не мог он не чувствовать некоторую узость нового курса.
Коробило его вот что: хоть язычество из православия не изжили, но нападают на него с каждой паперти, как на индийскую йогу, и не признают этого нападения, и в конечном итоге губят сам корень нашей истории, пуская его забвение в людских умах. Поэтому он и считал, что культурой древних славян (а их теософия и космогония представляла для Павла Артемьевича, человека всё-таки светского до мозга костей, именно срез культуры), праотцов, нельзя так запросто разбрасываться, вменять её всю узким специалистам, её надо чтить, исследовать и возрождать, и прививать знание о ней массам (именно эту прививку он готов был взять на себя).
Первое, что он сделал, ощутив масштабность своей идеи, – встретился с культурологом-североведом Сергеем Ивановичем Бахрушиным. Тогда Костряков говорил очень осторожно и даже поскорее хотел отделаться от словоохотливого Бахрушина, уйти, потому что ещё прискорбно мало знал о предмете и тяготился очевидным своим невежеством. Но Бахрушин, смекнув о музее (хотя Костряков о нём и словом не обмолвился), совершенно не желал ничего примечать, на все лады воспевая исследовательскую и иную перспективность заинтересовавшего господина экс-мэра предмета. Мы не будем передавать всё, о чём узнал в тот день Костряков от Бахрушина, кроме того, что имело непосредственное влияние на судьбу Нежина, распластавшегося ныне под яблоней.
– Ну что это такое! Всё им как одно, Павел Артемьевич, – заводился Бахрушин, как будто призывая Кострякова в судьи, а между тем просто пытаясь его заинтересовать, – и всё они профанируют бедного китовраса, уже сил никаких! Не поверите, и Бову Королевича, и Полкана, и даже зодиакального Стрельца суют, и онокентавра! Я уже не говорю про то, Павел Артемьевич, что образованный наш русский человек убеждён, что китоврас пошёл от древнегреческого кентавра! И это-то наша национальная гордость! – воскликнул Бахрушин, как будто почуяв, куда давить. – Всё грекам отдаём! Хотя ещё академик Веселовский – а ведь кентавр с половиной звериной символизирует победу духа над материей! – ну так Веселовский сомневался, что греческий кентавр произошёл от санскритского гандхарва, а русский китоврас от кентавра. И я вот вам скажу, что никакого греческого! Никакого! Китоврас – это анаграмма! Позвольте, кстати, вам показать мою домашнюю коллекцию, знаете, лет двадцать назад бабки наши все свои короба, прялки, сундуки с росписями запросто отдавали, мол, старьё, хлам, а тут копейка живая, так вот там на одной из коробочек удивительный китоврасик!
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Троесолнца"
Книги похожие на "Троесолнца" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Шунина - Троесолнца"
Отзывы читателей о книге "Троесолнца", комментарии и мнения людей о произведении.