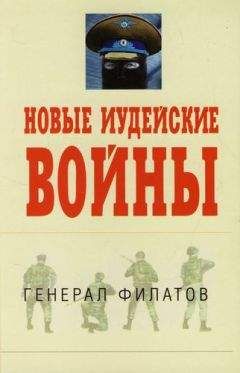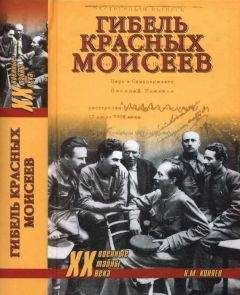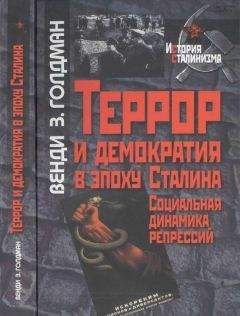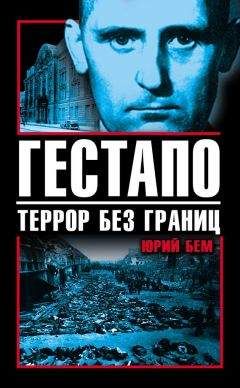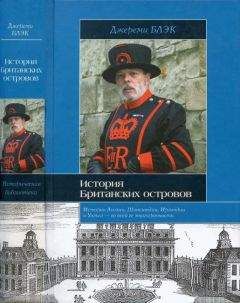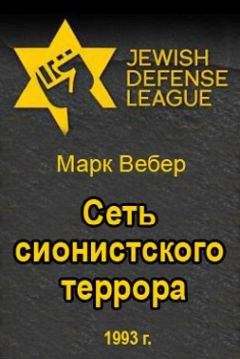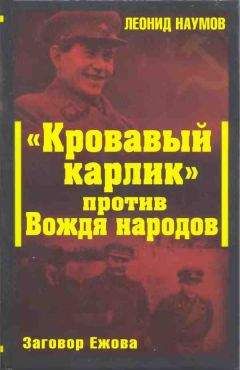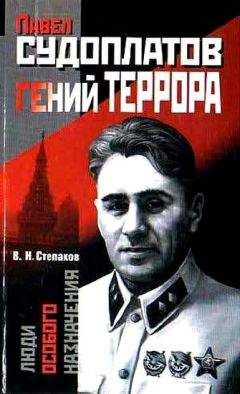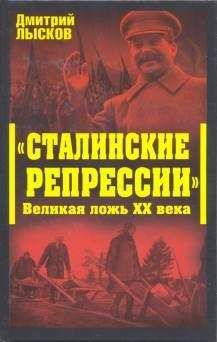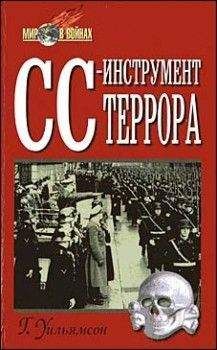Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора
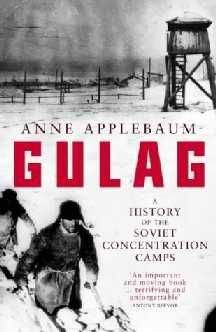
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Паутина Большого террора"
Описание и краткое содержание "Паутина Большого террора" читать бесплатно онлайн.
Эта книга, отмеченная Пулитцеровской премией, — самое документированное исследование эволюции советской репрессивной системы Главного управления лагерей — от ее создания вскоре после 1917 г. до демонтажа в 1986 г. Неотделимый от истории страны ГУЛАГ был не только инструментом наказания за уголовные преступления и массового террора в отношении подлинных и мнимых противников режима, но и существенным фактором экономического роста СССР. Только в пору его расцвета — в 1929–1959 гг. — через тысячи лагерей прошли около 18 миллионов заключенных. В собранных автором письменных и устных мемуарах погибших и выживших жертв концлагерей, в документах архивов — уникальные свидетельства о быте и нравах зоны: лагерная иерархия, национальные и социальные особенности взаимоотношений заключенных; кошмар рабского труда, голода и унижений; цена жизни и смерти, достоинство и низость, отчаяние и надежда, вражда и любовь…
Эта подлинная история паутины Большого террора — одна из самых трагических страниц летописи XX века, к сожалению, не ставшая, по мнению, автора, частью общественного сознания.
Солженицын, который много пишет о придурках в «Архипелаге ГУЛАГ», отмечает их тягу к получению вроде бы небольших, но очень ощутимых привилегий:
«По обычной кастовой ограниченности человеческого рода, придуркам очень скоро становится неудобным спать с простыми работягами в одном бараке, на общей вагонке, и вообще даже на вагонке, а не на кровати, есть за одним столом, раздеваться в одной бане, надевать то белье, в котором потел и которое изорвал работяга».
Оговариваясь, что
«всякая житейская классификация не имеет резких границ»,
Солженицын старается как можно точнее описать иерархию придурков. На низшей ступени, пишет он, стоят
«конструкторы, технологи, геодезисты, мотористы, дежурные по механизмам»,
несколько выше их —
«инженеры, техники, прорабы, десятники, мастера цехов, плановики, нормировщики, и еще бухгалтеры, секретарши, машинистки».
Все это — «производственные придурки». Обычно они, как и все, утром
«строятся на развод, идут в конвоируемой колонне».
Но труд
«не требует от них физических испытаний, не изнуряет их».
Более привилегированное положение занимали «зонные придурки», не выходившие из жилой зоны. Солженицын пишет:
«Рабочему хоздвора уже живется значительно легче, чем работяге общему: ему не становиться на развод, значит можно позже подниматься и завтракать; у него нет проходки под конвоем до рабочего места и назад, меньше строгости, меньше холода, меньше тратить силы; к тому ж и кончается его рабочий день раньше; его работы или в тепле, или обогревалка ему всегда доступна… „Портной“ звучит и значит в лагере примерно то же, что на воле — „доцент“»[1235].
Зонным придуркам «низшего класса» приходилось работать руками, «и иногда немало». В их числе —
«прачка, санитарка, судомойка, кочегар и рабочие бани, кубовщик, простые пекари, дневальные бараков»,
а также рабочие лагерного хоздвора — слесари, столяры, печники. Выше — «истые зонные придурки», не занимающиеся физической работой: повара, хлеборезы, врачи, фельдшеры, парикмахеры, коменданты, нарядчики, бухгалтеры, инженеры зоны и хоздвора и т. д. В некоторых лагерях была даже такая должность, как дегустатор[1236]. Эти придурки, пишет Солженицын,
«не только сыты, не только ходят в чистом, не только избавлены от подъема тяжестей и ломоты в спине, но имеют большую власть над тем, что нужно человеку, и, значит, власть над людьми»[1237]. Они могли решать, какой работой будет заниматься тот или иной обычный зэк, сколько еды и какое медицинское обслуживание будет получать, а значит, в конечном счете, жить ему или умирать.
В отличие от привилегированных заключенных в нацистских лагерях, придурки ГУЛАГа не принадлежали к какой-либо определенной этнической категории. Теоретически подняться до положения придурка и даже стать охранником мог кто угодно (люди нередко переходили из придурков в охранники и наоборот). Хотя в принципе любой обычный зэк мог стать придурком и любой придурок мог перейти в положение обычного зэка, эти переходы подчинялись сложным правилам.
Правила различались от лагеря к лагерю и от периода к периоду, но некоторые принципы соблюдались более или менее постоянно. Что самое главное, в придурки гораздо легче было попадать «социально близким» уголовникам, чем «социально опасным» политическим. Согласно извращенным «нравственным» представлениям ГУЛАГа, «социально близкие», в том числе не только профессиональные воры и убийцы, но и «бытовики», легче, чем политические, могли превратиться в добропорядочных советских граждан и поэтому больше заслуживали «придурочных» должностей. И в некоторых отношениях уголовники, которые только рады были проявить жестокость, оказывались идеальными придурками.
«Везде и всегда, — с горечью писал один бывший политический, — эти заключенные пользовались почти безграничным доверием тюремного или лагерного начальства и назначались на такие выгодные должности, как работа в конторе, ларьке, столовой, бане, парикмахерской и т. д.»[1238].
Как я уже писала, это в наибольшей степени относится к концу 30-х и годам войны, когда в советских лагерях верховодили уголовники. Но и позднее (Фильштинский пишет о конце 40-х) «культура» придурков была мало отличима от «культуры» блатных.
Но придурки из блатных тоже создавали трудности для лагерного начальства. Они не были «врагами народа», но у них не было никакого образования, нередко они даже были неграмотны и не желали учиться. Даже если в лагере открывали школы ликвидации неграмотности, блатари, как правило, всячески отлынивали от занятий[1239]. Это, пишет Лев Разгон, не оставляло лагерному начальству иного выбора, кроме как использовать политических:
«под давлением неумолимого, не знающего никаких отговорок плана самые усердные, ненавидящие „контриков“ вертухайские начальники вынуждены были нарушить закон от 1930 года и ставить на работы, требующие специальных знаний, „пятьдесят восьмую“»[1240].
С 1939 года, когда Берия, сменивший Ежова, поставил задачу сделать ГУЛАГ прибыльным, четких и ясных правил на этот счет никогда не было. В инструкции за август 1939-го о режиме содержания заключенных в ИТЛ, запрещавшей использование «политических» в аппарате Управления лагеря, были сделаны некоторые исключения. По специальности можно было использовать заключенных врачей, а также, в случае особой необходимости, людей, осужденных по «менее тяжким» пунктам 58-й статьи — пунктам 7, 10, 12 и 14, определявшим наказание, в частности, за «антисоветскую агитацию или пропаганду» (например, за политические анекдоты). А вот осужденных за «терроризм» или «измену Родине» полагалось использовать только на общих работах[1241]. Но с началом войны даже это правило перестали соблюдать. Сталин и Молотов разрешили Дальстрою ввиду чрезвычайных обстоятельств заключать индивидуальные соглашения на определенный срок с инженерами, техниками и административными работниками, отправленными на Колыму[1242].
Тем не менее лагерному начальнику, у которого на ответственных должностях работало слишком много политических, могли «дать по шапке», и некоторая неопределенность в этом вопросе сохранялась всегда. Поэтому, пишут Солженицын и Разгон, политическим порой давали «хорошую» работу в помещении (например, работу бухгалтера, учетчика), но — на временной основе. Раз в году, когда из Москвы приезжали проверяющие, всех «неблагонадежных» выгоняли на общие работы.
На практике правила зачастую оказывались просто бессмысленными. В Каргопольлаге Фильштинского как политического не приняли на курсы бракеров, но разрешили ходить на занятия и сдать экзамен, после чего он смог-таки устроиться бракером на лесобиржу[1243]. В послевоенные годы, когда на лагерную жизнь начали оказывать влияние сильные национальные группы, на смену власти уголовников нередко приходило верховенство лучше организованных национальных землячеств, чаще всего украинских и прибалтийских. Те, кто попадал на хорошие должности (бригадира, десятника, нормировщика), всячески старались, и небезуспешно, помогать своим — вытаскивать их с общих работ, делать придурками.
Однако заключенные не могли в полной мере распоряжаться распределением «придурочных» должностей. Последнее слово всегда оставалось за лагерным начальством, и оно, как правило, было склонно устраивать на лучшие места тех, кто был в наибольшей степени готов к пособничеству, а именно, готов стать осведомителем, стукачом. Сколько таких стукачей использовала система, увы, сказать невозможно. В российских архивах документы третьих (оперативно-чекистских) лагерных отделов, ведавших набором осведомителей, остались, в отличие от документов ряда других подразделений, закрытыми. Российский историк Виктор Бердинских в книге о Вятлаге приводит некоторые цифры, не называя источника:
«Уже в 20-е годы руководство ОГПУ ставило задачу иметь среди з/к в лагерях не менее 25 процентов доносчиков. В 1930—1940-е годы плановая цифра уменьшилась до 10 процентов».
Но и Бердинских признает, что
«об успехах и неудачах в этом деле рассказывать сложно, так как оперчекистские отделы, где сосредоточены списки стукачей… закрыты намертво»[1244].
В мемуарах бывших лагерников практически нет признаний в доносительстве, хотя некоторые пишут о том, что их вербовали. Безусловно, тот, кто был осведомителем в тюрьме (или даже до ареста), прибывал в лагерь с отметкой в личном деле о склонности к такого рода сотрудничеству. С другими, судя по всему, проводили беседу на эту тему вскоре после их прибытия в лагерь, пока они еще не успевали оправиться после первого смятения и испуга. Леонид Трус был вызван к «куму» (оперуполномочнному, ведавшему набором осведомителей) на второй день пребывания в лагере. Он отказался стать стукачом, и в отместку его очень долго держали на общих работах. Бердинских приводит цитаты на эту тему из интервью, взятых им у бывших заключенных, и переписки с ними:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Паутина Большого террора"
Книги похожие на "Паутина Большого террора" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора"
Отзывы читателей о книге "Паутина Большого террора", комментарии и мнения людей о произведении.