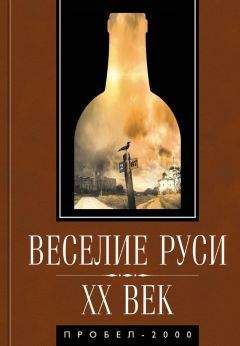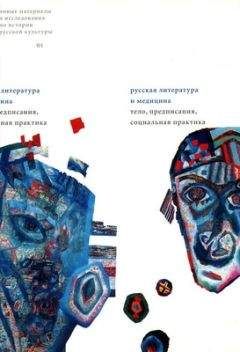Алексей Чагин - Пути и лица. О русской литературе XX века

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пути и лица. О русской литературе XX века"
Описание и краткое содержание "Пути и лица. О русской литературе XX века" читать бесплатно онлайн.
В книге объединен ряд работ автора, написанных в последние два десятилетия и посвященных русской литературе XX века. Открывается она "Расколотой лирой" (1998) - первым монографическим исследованием, обращенным к проблемам изучения русской литературы в соотношении двух потоков ее развития после 1917 года - в России и в зарубежье. В следующие разделы включены статьи, посвященные проблемам и тенденциям развития литературы русского зарубежья и шире - русской литературы XX века. На страницах книги возникают фигуры В.Ходасевича, Г.Иванова, С.Есенина, О.Мандельштама, И.Шмелева, В.Набокова, Б.Поплавского, Ю.Одарченко, А.Несмелова, М.Исаковского и других русских поэтов, прозаиков.
Книга адресована специалистам-филологам и всем, кто интересуется русской литературой XX века.
Многое напоминает здесь «Звезды», — более того, многое говорит о том, что поэтический путь, обозначенный «Днем», привел поэта к «Звездам». Тот же четырехстопный ямб, тот же откровенный контраст между строгим звучанием ямбического стиха и низменной природой заключенного в нем смысла, дисгармонией, поселившейся в каждой детали воссозданного здесь мира. Уже в первых двух строфах бросаются в глаза следующие один за другим оценочные эпитеты, определяющие весь тон поэтической картины: «злой и лживый» ветер, «пыльная» духота, «усыпительный» покой, «влажное сладострастье», «ленивая прелесть». Вторая и третья строфы соединены повторяющейся фразой-констатацией: «Здесь хорошо», — синтаксическая (и, значит, смысловая) завершенность которой прерывает надвое звучание первой строки в каждой из строф, сообщая ей эпически спокойную интонацию. Дальнейшее же движение картины все с большей силой подтверждает иллюзорность этого покоя. Образы в третьей строфе соединены друг с другом по принципу контраста, взаимного противоречия, подчеркивая ощущение разлада: раскаты грозы над ясной улицей, идущие по улице солдаты (воплощение Строя и Порядка) и здесь же кишащие бесы (воплощение Хаоса). Окончательное подтверждение это ощущение разлада и хаоса получает в следующих (не цитировавшихся) здесь строфах, где моментальные зарисовки проделок снуюших повсюду бесов своей гротесковой фантазией заставляют вспомнить «Капричос» Гойи.
Наконец, предпоследняя строфа стихотворения держится на двух образах, воплотивших в себе идею «покрова». И вряд ли случайно, что первый из этих образов — «блистательная кутерьма» — почти точно совпадает по смыслу с аналогичным образом в «Звездах», рисующим хаос земной действительности — «рассусаленный сумбур». Следующий же за ним образ небесного свода — «темно-лазурной тюрьмы» — довершает воплощение поэтической идеи «покрова», непроницаемой преградой отделившего «блистательную кутерьму» земного мира от «бездны» — души.
Несомненная значительность этого образа не раз привлекала внимание критиков. Справедливо говорилось о немыслимости такого образа, раскалывающего гармонию мира и души, в пушкинской поэтической системе [68]. Найдена была и родословная этого образа, идущая от «голубой тюрьмы» Фета [69]. Если же говорить о родословной в более широком и принципиальном смысле, то (не отрицая неслучайности появления имени Фета) очевидно, конечно, здесь присутствие Тютчева. И все же, остановившись, подобно Тютчеву, «на пороге как бы двойного бытия», Ходасевич не повторил по-ученически мучительных поисков своего великого предшественника. Более того, возникающий в его поэтическом мире непримиримый спор между «покровом» и «бездной» далек от тютчевских прозрений, породственному чужд им.
Вспомним слова Ходасевича, сопоставляющего Тютчева и Пушкина; к уже процитированному добавим еще фразу: «Он нашел слова, которых Пушкин только еще искал» [70]. Смысл сказанного состоит еще и в том, что поэтические открытия Тютчева не разрушали пушкинского космоса, но раздвигали его горизонты. Стихотворения же Ходасевича 1920-х годов, следующие законам пушкинской поэтики, враждебны Пушкину, как проницательно заметил В.Вейдле, во внепоэтической своей основе [71]. Тютчев нарушил гармонию пушкинского мира, принеся в него тревогу «ночной души», уловив в нем неизменно (затаенно или открыто) звучащий зов бездны, готовой обнажиться, лишь только завоет «ветр ночной», лишь только померкнет день и «ночь хмурая,как зверь стоокий / Глядит из каждого куста». Ходасевич же угадывает зияние бездны за пределами (пушкинского) мира, поэзии его необходимо взорвать этот мир, вырваться за его пределы, — чтобы бездна открылась перед ним. Поэтому для него день — это не тютчевский «златотканный покров», блистающий между человеком и бездной и готовый растаять с наступлением ночи; теперь это — «темно-лазурная тюрьма», непроницаемой стеной отгородившая человека от бездны, и «тюрьму» эту не так легко сокрушить. Образ этот не случаен в поэзии Ходасевича, о том же пишет он в другом стихотворении, созданном, как и в 1921 году:
Вон ту прозрачную, но прочную плеву
Не прободать крылом остроугольным,
Не выпорхнуть туда, за синеву,
Ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным.
(«Ласточки»)
Есть у Ходасевича и нечто иное (не менее значительное), что отдаляет его от тютчевского чуткого и тревожного вслушивание в голоса бездны. Перечитаем Тютчева — «День и ночь», «Песок зыбучий по колени…», «О чем ты воешь, ветр ночной…», другие стихотворения. Трудно не заметить, какая грозная сила заключена в обнажившейся перед поэтом бездне «с своими страхами и мглами», в ночи, глядящей на него, «как зверь стоокий», в «страшных песнях» ночного ветра. Зов бездны резкой диссонирующей нотой вторгается в картину светлого дня, «друга человеков и богов», разрушая его гармонию, открывая шевелящийся под ним «древний хаос». У Ходасевича же унаследованный поэтический образ оборачивается чем-то противоположным: земной день оказывается у него прибежищем хаоса («кутерьма», «сумбур»), а бездна, угадываемая за «темно-лазурным» панцирем дня, — обителью духа («Ласточки»), сферой, куда стремится душа (первая и предпоследняя строфы «Дня»). В этой «навыворотной» интерпретации идущего от Тютчева образа дала знать о себе черта сознания человека двадцатого столетия, для которого гармония возможна лишь за пределами этого мира; для которого земной мир, «злой и лживый», полон хаоса — но это уже не тот страшный и величественный «древний хаос», что был у Тютчева. Поселившись в этом мире, он измельчал, он отводит душу в каждодневной бесовской «кутерьме», заслоняя от человека дыхание вечности.
И все-таки присутствие (пусть только предполагаемое) вечности, бездны за голубым сводом дневного мира очевидно и в «Дне», и в других стихотворениях «Тяжелой лиры». Причем часто ощущение жизни «на грани как бы двойного бытия» так захватывает поэта, что становится главной движущей силой в создании стихотворения, определяя его содержание и смысл («Покрова Майи потаенной…», «Большие флаги над эстрадой…», «Гляжу на грубые ремесла…», «Ни жить, ни петь почти не стоит…» и др.). Именно здесь определеннее всего дает знать о себе то новое качество поэзии Ходасевича, которое В.Вейдле назвал «земной духовностью “Тяжелой лиры”» [72]. Присутствие бездны, т.е. духовные горизонты бытия поэт распознает нередко не вопреки (как в «Дне») грубой материальности окружающего мира, но в самом этом мире, погружаясь в него. В «Тяжелой лире» можно разглядеть иные измерения жизни, не только всматриваясь в глаза любимой, где «светлый космос возникает / Под зыбким пологом ресниц», но и проникая в самую прозаичную вещественность мира:
Ни жить, ни петь почти не стоит:
В непрочной грубости живем.
Портной тачает, плотник строит:
Швы расползутся, рухнет дом.
И лишь порой сквозь это тленье
Вдруг умиленно слышу я
В нем заключенное биенье
Совсем иного бытия.
(«Ни жить, ни петь почти не стоит…»)
Это неизменная «раздвоенность» поэтического сознания напоминает об истоках творчества Ходасевича, о том, что опыт Тютчева, Фета (здесь неизбежно возникает и имя Баратынского) был воспринят им через философию и художественные открытия символизма, влияние которого он испытал еще в самом начале своего пути в литературе. Отсюда — прозрение в глубины духовного бытия сквозь толщу материального мира – то, что Вяч. Иванов определял формулой «a realibus ad realiora», т.е. «от внешней реальности к реальности высшей». Отсюда, видимо, и новое осмысление сути «покрова» и «бездны» в воссоздаваемом поэтическом мире, где (в отличие от тютчевского грозного «древнего хаоса») сквозь «покров» окружающего мира проглядывает «светлый космос», та самая высшая реальность, которая позволяет поэту увидеть и открыть в мишуре суетного дня «цветочный мир, цветочный путь», в далеком парусе рыбачьей ладьи — ангельское «розовоперое крыло» (образ, не раз возникающий у Ходасевича).
Отсюда и фигура поэта — Орфея, проникающего взором в суть вещей, открывающего запредельные миры в обыденной реальности. Не случайно именно этот образ оказывается в основе стихотворения «Баллада», завершающего книгу Ходасевича «Тяжелая лира». Характерное совпадение — подытоживая пройденный в «Тяжелой лире» путь осмысления и поэтического воссоздания «двойного бытия» (ведь книга стихов была для поэта не чем иным, как этапом жизни [73]), стихотворение это протягивает преемственные линии к другому произведению Ходасевича, завершающему следующую его книгу («Европейская ночь»), следующий этап жизни — к «Звездам». Начинается оно, как и «Звезды», картиной, подчеркивающей убогость и тесноту земного мира, в котором живет поэт:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пути и лица. О русской литературе XX века"
Книги похожие на "Пути и лица. О русской литературе XX века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Чагин - Пути и лица. О русской литературе XX века"
Отзывы читателей о книге "Пути и лица. О русской литературе XX века", комментарии и мнения людей о произведении.