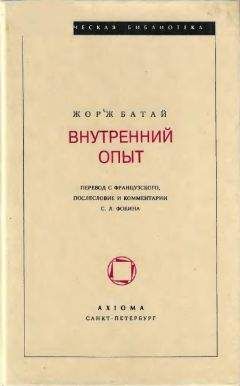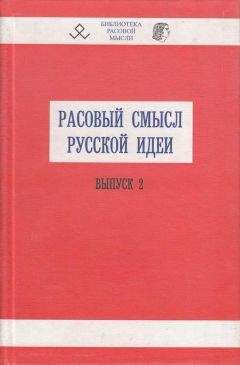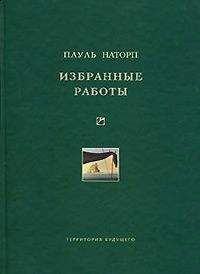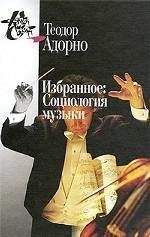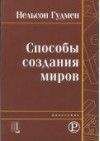Ганс Гадамер - Актуальность прекрасного
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Актуальность прекрасного"
Описание и краткое содержание "Актуальность прекрасного" читать бесплатно онлайн.
В сборнике представлены работы крупнейшего из философов XX века — Ганса Георга Гадамера (род. в 1900 г.). Гадамер — глава одного из ведущих направлений современного философствования — герменевтики. Его труды неоднократно переиздавались и переведены на многие европейские языки. Гадамер является также всемирно признанным авторитетом в области классической филологии и эстетики. Сборник отражает как общефилософскую, так и конкретно-научную стороны творчества Гадамера, включая его статьи о живописи, театре и литературе. Практически все работы, охватывающие период с 1943 по 1977 год, публикуются на русском языке впервые. Книга открывается Вступительным словом автора, написанным специально для данного издания.
Рассчитана на философов, искусствоведов, а также на всех читателей, интересующихся проблемами теории и истории культуры.
Но тот, кто участвует во вновь и вновь возобновляемой практике почитания, которую мы зовем культом, знает, что такое праздник. Это почитание еще живет в обмирщ- вленной форме христианских праздников, таких, как карнавалы в католических странах, — и здесь мы уже ближе подходим к нашему предмету, а именно к театру и присущей ему праздничности. Подобно культу, театр является местом подлинного творения, — местом, где из нас делают и предъявляют нам в виде образа нечто такое, в чем мы ощущаем и узнаем реальность, превосходящую реальность нашего «Я». Здесь мы слышим голос истины, стоящей как бы над жизнью, освобожденной из забвения, неподвластной забвению. У древних язычников это совершалось в форме теофании[160], в христианском культе подобный смысл имеет причастие — и то же самое, но по-своему, продолжает совершать театр. Поскольку же это театр постоянный, делает он это совсем другими средствами. То, что театр стал постоянным, есть не просто внешнее изменение, посредством которого современная цивилизация сохраняет связь с древним волшебством театральной праздничности, скорее, это парадоксальное преобразование самой этой праздничности. Любому празднику, как мы видели, присущ четкий ритм повторяемости, выделенность из потока времени, и, подобно космической, пульсирующей совести, он возвещает нам о первенстве времен, о том, что не все они сливаются в неразличимом потоке и что в час праздника происходит возвращение великого мгновения. Ставший постоянным театр скрепляет это качество праздничности с той реальностью, которая являет себя в каждом новом представлении. В этом парадоксальном обращении заключается особенность современного театра. В прозаических набросках Гуш фон Гофмансталя есть соображения на этот счет, и мне хотелось бы их процитировать. Ибо если в наш век кто-то и имел право говорить о театре, так это Гофмансталь, коренной житель Вены и поэт. Гофмансталь пишет: «Из всех дошедших до нас светских институтов театр — единственно могучий и реальный институт, который связывает наше праздничное настроение, любовь к зрелищам, смеху, прикосновению, напряжению, возбуждению, потрясению непосредственно с праздничным импульсом, издревле присущим человеческому роду».
Именно об этом мне хочется сказать, размышляя о сохранившейся функции театра в изменяющемся обществе. Постоянный театр, вызванный к жизни этими переменами, является продуктом деятельности верхов бюргерства, претерпевшим с тех пор немало изменений, связанных с возникновением индустриального общества.
История театра знает, собственно, три больших периода, которые предстают ретроспективному взору.
Первый период, завершающийся как раз созданием постоянного театра, я охарактеризовал бы как эпоху религиозного присутствия или религиозной торжественности. В эту эпоху, само собой разумеется, театральное представление есть accidens[161], со-проявление смысла религиозного праздника; в рамках праздника оно выполняет определенную функцию — функцию собирания празднующих в некое целое, в сообщество. Такая форма совместного празднования, особенно характерная для культа Диониса, из которого родился античный театр (известно, что ни один античный культ так не вовлекал человека в свою орбиту, как это делал оргиастический культ бога Диониса), существует многие тысячелетия. И средневековый театр-мистерия, и театр эпохи барокко в некоторых своих формах (пьесы Кальдерона, например) еще не полностью отделились от той культовой среды, которая составляет сердцевину всей христианской эры. Главным содержанием этой главы в истории театра было то, что в осуществляемом театром единении зритель играл не меньшую роль, чем исполнитель. Понятно, что в современной технизированной культурной жизни зритель уже не является необходимым соучастником игры.
Такое соучастие возможно только потому, что театр, по сути, лишь изображает, представляет нечто, что не просто драматургом придумано, а режиссером осуществлено во плоти и чувственной конкретности, но что являет себя нам, зачаровывая и околдовывая даже тогда, когда мы этого не осознаем. Отзвук этой эпохи религиозного присутствия, в которую театральное торжество было звеном в цепи торжеств и празднеств, все еще можно расслышать даже в самом незначительном из наших сегодняшних театральных представлений.
Для второго большого периода в истории театра, который также продолжает оставаться частью нашего духовного достояния, характерен постоянный театр. Сущность этого периода наиболее ярко выражается в творчестве Шиллера, имя которого носит Маннгеймский национальный театр. Этот период я бы назвал эпохой нравственной трансцендентности или нравственной возвышенности. В этот период для каждого зрителя стало очевидным напряжение, существующее между реальностью господствующего стиля жизни и чарами сценического мира. Только теперь зритель становится зрителем в уже привычном нам (я чуть было не сказал: в уже непривычном нам) современном смысле. В мире, все более и более пронизываемом прозой, театральная сцена оказывается той великой утешительницей, какой она предстала Шиллеру, а вместе с ним и всему его веку. Задачей театра теперь (и это хорошо выразил Шиллер) становится расширение слишком узкого, слишком ограниченного действительностью горизонта человека, его муравьиного, по словам Шиллера, взгляда на мир — расширение, имеющее целью явить волю провидения каждому. Таким образом, в мире театральных иллюзий должна была стать видимой симметрия вины и наказания, напряжения и успеха, короче, вся та нравственная гармония, которая в самой жизни уже не видна.
Ясно, что именно в этом заключается задача нравственной трансценденции, ибо истинная жизнь помещается в сознании: в действительности все должно обстоять так, как представляет чудесный мир сцены, и Шиллер, как известно, усматривал моральное призвание театра в том, что он предвосхищает и разыгрывает на сцене процесс перехода к подлинно нравственному устройству жизни и общества. Но такая нравственная трансценденция означает — и мы имеем возможность убедиться в этом собственными глазами, — что зрителю отказано в полноте внутренней жизни. Он уже не является соучастником, как это было в прежних обществах во время религиозных или мирских праздников. Он всего лишь зритель, чему соответствует особой формы сцена, на которую он смотрит. Он — зритель, в темную камеру одиночества которого доносится со сцены призыв к нравственной трансценденции.
С тех пор как постоянный театр существует, завоевывая все больше общественного влияния, в нем выявляется еще одна характерная особенность: лишь теперь (впервые за всю историю театра) становится обычной практикой повторение спектаклей, а также новая постановка когда-то ставившихся пьес. Лишь теперь, наряду с произведениями современных авторов, инсценирующими только что происшедшие события, формируется устойчивый классический репертуар; лишь теперь возникает задача найти опосредование между современностью и историей, между наличностью сегодняшнего дня и наличностью культуры.
Несомненно, что театр не превращается от этого в музей. Театр никогда не был и не будет лишь достоянием истории. Там, где театр предпринимает постановку из чисто исторического интереса, там он отказывается от неотъемлемого права: быть современным, исключительно современным. Театру последних ста семидесяти пяти лет мы обязаны открытием нового измерения в нашем сознании, ибо нашим достоянием, неизменно новым и современным, теперь стали целые исторические эпохи со всеми творениями греческого, испанского, английского, классического французского и немецкого театров — творениями времен расцвета драматургии. Я не разделяю мнения, что целью постановок пьес классического репертуара является постановка исторически- архаического типа, выдержанная в духе соответствующей эпохи и осуществляемая на основе научных изысканий[162]. Напротив, величие этого периода в истории театра состоит в переплавляющей мощи, которой современность как таковая обладает лишь тогда, когда ей удается поднять прошлое на высоту настоящего.
Тем самым я хочу сказать, что перед нами открывается новая глава в истории театра. И неудивительно, что сегодня мы можем это предположить. Структурные изменения, претерпеваемые нашим обществом, столь глубоки, что было бы чудом, если бы наша эпоха позволила себе роскошь иметь интимный театр, устроенный наподобие исторического музея, театр, который существовал еще в те времена, когда ездили в почтовых каретах, и который уже лет сто как выполнил свою функцию.
Что представляет собой эта третья глава? Науке не подобает брать на себя функцию пророчества. Ограничусь поэтому описанием нескольких черт современного театра, к которым я, как его благодарный друг, хочу привлечь внимание. Я не могу найти достаточно выражений, чтобы охарактеризовать эту еще не написанную главу. Однако мне кажется очевидным, что как моральное напряжение между действительностью и мечтой, возвышенный нравственный призыв, составлявший величие классического театра XIX века, так и противостояние безмолвного зрителя и удаленной от него, преображенной огнями рампы сцены уже не вполне соответствуют нашей сегодняшней чувственности, нашим будущим возможностям. Единство зрителя и актера приобретает теперь новое значение. Размышляя над этим единством, мы начинаем понимать, что мир не познается в простом напряжении нравственного усилия и что сила театра — сила, напоминающая нам о древних религиозных основах культового праздника, — заключается в другом: в том, что всех нас поддерживает и несет общий, превосходящий каждого в отдельности дух. Много в современном театре говорит в пользу такого пути его развития. Профессиональные театроведы могут сказать, что все это давно известно и давно практикуется. Но у нас, дилетантов, взор открывается позднее, и мы запаздываем с пониманием того, что же происходит с театром.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Актуальность прекрасного"
Книги похожие на "Актуальность прекрасного" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ганс Гадамер - Актуальность прекрасного"
Отзывы читателей о книге "Актуальность прекрасного", комментарии и мнения людей о произведении.