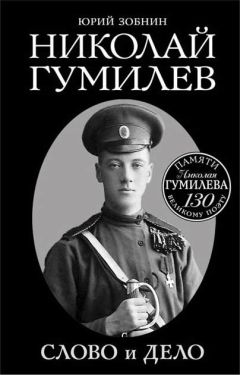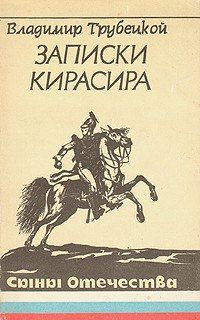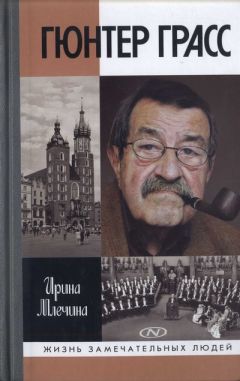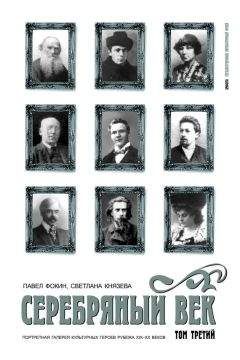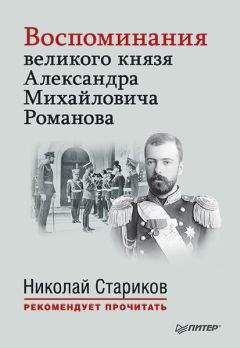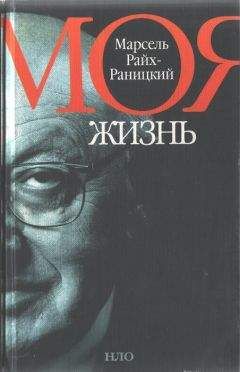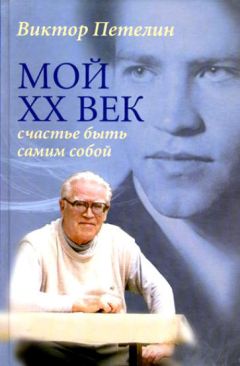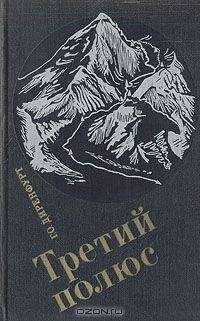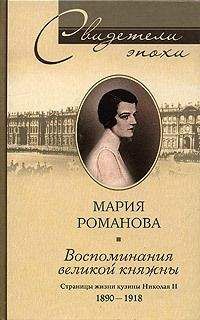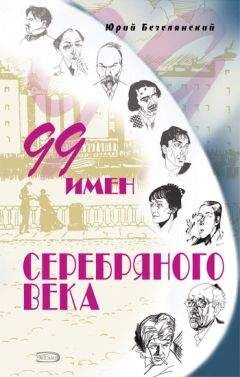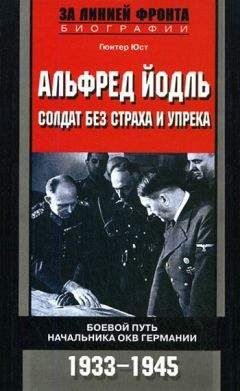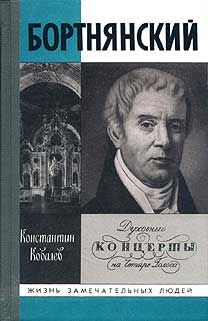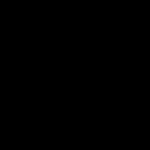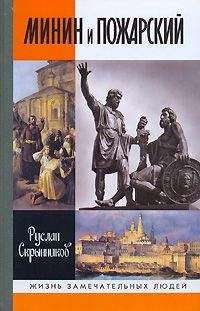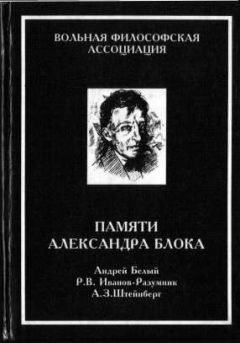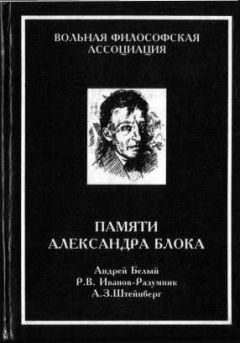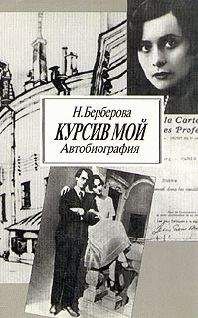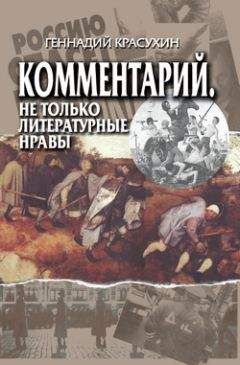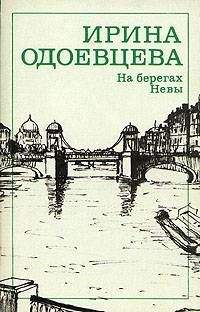Иоганнес Гюнтер - Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном"
Описание и краткое содержание "Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном" читать бесплатно онлайн.
Автор воспоминаний, уроженец Курляндии (ныне — Латвия) Иоганнес фон Гюнтер, на заре своей литературной карьеры в равной мере поучаствовал в культурной жизни обеих стран — и Германии, и России и всюду был вхож в литературные салоны, редакции ведущих журналов, издательства и даже в дом великого князя Константина Константиновича Романова. Единственная в своем роде судьба. Вниманию читателей впервые предлагается полный русский перевод книги, которая давно уже вошла в привычный обиход специалистов как по русской литературе Серебряного века, так и по немецкой — эпохи "югенд-стиля". Без нее не обходится ни один серьезный комментарий к текстам Блока, Белого, Вяч. Иванова, Кузмина, Гумилева, Волошина, Ремизова, Пяста и многих других русских авторов начала XX века. Ссылки на нее отыскиваются и в работах о Рильке, Гофманстале, Георге, Блее и прочих звездах немецкоязычной словесности того же времени.
Август Вильгельм фон Шлегель знал в этом толк, он был дока. Он делал паузу после второго подъема и тем достигал волшебного стихотворного эффекта.
Фраза втиснута у Шекспира в одну строку. Так она могла бы выглядеть и в немецком переводе, например: «Wenn nur Musik die Liebe nahrt, spiel auf7»
Шлегель знал, что делает, когда допускал в переводе небольшую просодическую неточность.
Несколько месяцев пришлось поработать, прежде чем драмы Пушкина в моей немецкой версии были готовы.
В таком виде они вышли в 1948 году в моем первом издании четырехтомника Пушкина. Во втором издании, вышедшем в 1951 году, я эти переводы переработал, переняв полностью пушкинские женские или мужские окончания. Но для вышедшего в 1965 году в Мюнхене однотомника я вновь отступил от этого принципа и по-новому построил строку. Поэтические переводы — труд кропотливый и бесконечный!
Тем временем наступил сентябрь, и мне давно пора было снова ехать в Петербург, чтобы всерьез обсудить с Мейерхольдом возможности возрождения старинного театра; при этом я думал о своем друге Константине Миклашевском, лучшем знатоке итальянских импровизационных комедий графа Карло Гоцци.
Но в Митаву из своего длительного итальянского заточения вернулась Рената, подруга моих юных дней, и я остался дома. Несколько стихотворений, которые вполне отвечали моим новым требованиям, то есть так называемому «кларизму» Кузмина, стали милой добычей прекрасно проведенного месяца. К этим стихам у меня и сегодня нет претензий.
В области драматургии 1910 год отмечен только одним завоеванием. Я написал небольшой зингшпиль «Гость любимый», грациозный и, как мне казалось, ладно скроенный одноактовик, который, однако, так никогда и не нашел композитора; мои робкие надежды в этом смысле на Кузмина не оправдались, маэстро остался холоден.
Октябрь застал меня в Петербурге; если бы Вера была жива, я бы начал уже свою работу в ее мастерской. Сможет ли Мейерхольд предложить мне замену?
Я много работал с ним. Однако настоящей совместной работы так и не получилось. Мы хоть и симпатизировали друг другу, но он всегда оставался безусловным мастером, а я бестолковым и ерепенистым подмастерьем. Одно время я присутствовал на всех его репетициях и научился у него прежде всего контрапунктному соединению игры разных актеров. То, что я мог наблюдать у него, было настоящей театральной игрой, которой желали испанцы, или Мольер, или Гоцци и которая видна у Шекспира — по крайней мере в его комедиях. Актер как телесно привлекательный и духовно активный игрок — это и мне представлялось главной задачей будущего театра. Как мне кажется, тогда и среди авторов, помешанных на театре, начиналось какое-то шевеление в эту сторону — прочь от натурализма, прочь от романтизированного символизма. Это было заметно у Гофмансталя, Фольмёллера, Хейзелера, чтобы назвать только их; Метерлинк, Доусон, Йетс, Клодель, Гамсун, Пшибышевский и возможно даже д’Аннунцио являли признаки новой драматургии, а гениальный филолог Герман Райх создал своего «Мима», может быть, важнейшее произведение того времени, хотя и оставшееся почти незамеченным.
В России в этом направлении можно было выделить лишь опыты Блока, Гумилева и Сологуба, а также отдельные музыкальные пьесы Кузмина. Однако не хватало нового театра, который предоставил бы себя в распоряжение этих авторов. Возможно, со временем кое-что из этих опытов возродится.
Манифест «кларизма» Кузмина вызвал оживленное обсуждение. Профессора символизма, прежде всех Блок и его противник Вячеслав Иванов, оседлав боевых коней, взбивали турнирную пыль. Брюсов, казалось, сражается за новое учение. Белый был — как всегда — гениально многолик. Постепенно на передний план выдвигалась фигура Гумилева.
Гумилев вернулся из Абиссинии, на обратном пути он сделал остановку в Париже, где не понарошку женился — на одной подруге юности, как мне рассказал Маковский. Он, приехавший из Парижа в Россию в одном поезде с молодоженами, немного язвил, как всегда, и не очень-то верил в продолжительность этого брака.
Я встретил Гумилева в «Аполлоне». Отчуждение между нами исчезло, ожесточенные дебаты о новой чувственноосмысленной поэзии снова нас сблизили. За ним стояла внушительная рать молодых людей, которых можно было считать его учениками.
Самым гениальным среди них был, несомненно, Мандельштам, молодой еврей с большой, необыкновенно безобразной, но переполненной идеями головой, которую он резко закидывал назад и при ходьбе, и во время разговора, и во время чтения стихов. Лицо его от непрерывного, нервного курения походило на сыр, он был длинный и тощий, неловкий и неуклюжий, держался неуверенно и никогда не знал, куда ему деть руки. Он часто и громко смеялся, стремился играть в простачка, но все равно он весь был одна сплошная декламация — особенно, конечно, когда торжественно псалмодировал свои стихи, взглядом ясновидца уставившись в одну какую-то точку.
Но произведения его, хотя и был в них налет какой-то игры, отличались уже большим совершенством. В его ранних стихах словно собрана была сласть лучших французов девятнадцатого столетия — Верлена, Виле-Гриффина; позднее они стали заметно классичнее, тверже. Он радовался, как ребенок, когда замечал, что они нравятся.
О том, что я, помешавшись тогда на театре, не сблизился ни с Мандельштамом, ни с другими учениками Гумилева, я глубоко сожалею до сих пор.
По всем признакам складывалась новая школа. К мастеру этого цеха присоединился Сергей Городецкий; он, со своей фольклорностью, рожденной из мифа, не мог окончательно соединиться с символистами и поэтому оставался, как и тайновидец Блок, несколько в стороне. Его магический реализм нравился новым поэтам.
Гумилев с Городецким нашли для своих новых поэтических форм и своего нового направления духа, многократно описанного ныне с разными интерпретациями, название «акмеизм». Слово происходит от греческого «акме», высота, вершина. Выбрано оно не слишком удачно и поэтому породило немало насмешек, но тем не менее прижилось, как видно, ибо теперь, полвека спустя, все, описывая ту эпоху, говорят об «акмеистах». Другое их самопоименование — Цех поэтов — представляется более точным. Цеховое, ремесленное начало, на которое они нажимали, показывает, насколько серьезно они относились к своей поэзии, и в этом отношении Гумилев был выдающийся цеховой мастер. Меня иной раз поражает, насколько велико было его умение, насколько велики были его познания в области просодии и его понимание самой главной предпосылки поэзии — согласованности просодии с содержательным смыслом. Друг мой Гумми, вроде бы не такой уж и образованный, мгновенно фиксировал всякую просодическую ошибку — и порицал ее беспощадно.
Из его учеников в дальнейшем наибольшее впечатление на меня произвел Георгий Иванов. Всегда тщательно одетый, с профилем, будто перенесенным с геммы какого-нибудь римского императора, Иванов был самим воплощенным и оформленным отрицанием любой «ollapotrida» [13], мешанины стилей и ломки форм. Его строгая художественная воля, как и тяготение Мандельштама к французскому классицизму, казалась мне гарантией непрерывного дальнейшего цветения русской поэзии.
Ум и ясность Кузмина победили, он был всеми признан как мастер; в нем только не было односторонности, необходимой для того, чтобы стать вождем этих молодых людей.
Односторонность — неоценимый дар для тех, кто должен и хочет командовать. При этом даже необязательно обладать этим свойством, важно достоверно и бескомпромиссно его изображать.
Гумми им обладал. Его страстная одержимость не признавала тут юмора. Зато в его группе, как некогда у немецких романтиков, ценилось смешливое остроумие словесной игры.
В течение дня спорили, проповедовали, манифестировали в «Аполлоне», по ночам продолжали то же самое в
«Бродячей собаке». И там и тут пылкое изъявление новой художественной воли. «Собаку» без преувеличения можно назвать родильным домом многих знаменитых «измов». Родился ли здесь акмеизм, утверждать не берусь, но без «Собаки» он, несомненно, не смог бы так быстро распространиться. Футуризм и эгофутуризм тоже здесь явились на свет.
С кем только не ссорился и не братался я в тех «собачьих» препирательствах о поэзии!
Бывал тут Игорь Северянин, почти мой ровесник, отец эгофутуристов. Настоящая фамилия его была Лотарев, и он был в отдаленном родстве с Карамзиным; Северянин — человек с Севера — его псевдоним. Породила его на свет, с необыкновенным шумом, чета Сологубов. Название его первого сборника стихотворений — «Громокипящий кубок» — взято из Тютчева.
У Северянина был успех, как ни у кого, при этом все у него было смесью элегантного китча с романтической экзотикой и порой прямо-таки ошеломительными неологизмами. Волна какой-то совсем нерусской истерии несла его с эстрады на эстраду. Читал он и у нас. А после, ночью, я, ассистируемый Кузминым и другом моим Израилевичем, казнил его по всем правилам экзекуции. Он выдержал казнь с великолепным достоинством.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном"
Книги похожие на "Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иоганнес Гюнтер - Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном"
Отзывы читателей о книге "Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном", комментарии и мнения людей о произведении.