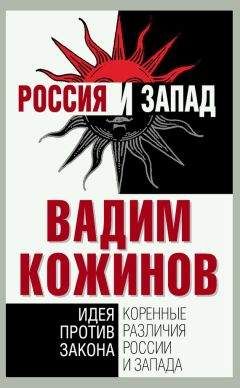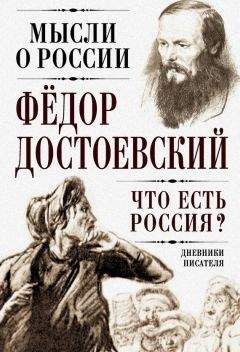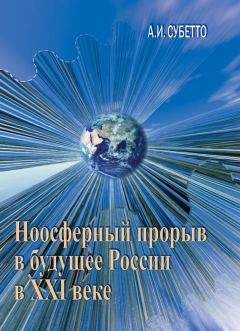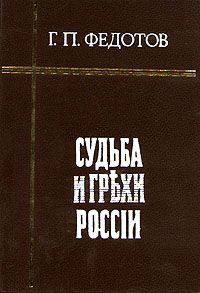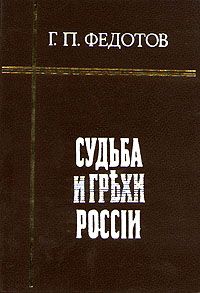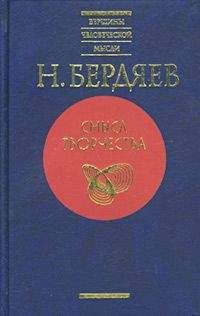Георгий Федотов - Судьба и грехи России
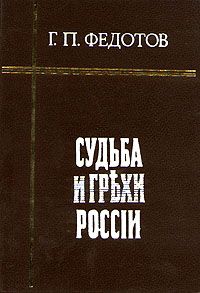
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Судьба и грехи России"
Описание и краткое содержание "Судьба и грехи России" читать бесплатно онлайн.
Федотов Георгий Петрович(1886 - 1951 гг.) — выдающийся русский мыслитель и историк. Его научные интересы были сосредоточенны на средневековом и древнерусском христианстве. Был близок к Бердяеву и св. Марии (Скобцовой). Защитник свободы и честности в Церкви, мысли, обществе.
Федотов Г.П., Судьба и грехи России /избранные статьи по философии русской истории и культуры/
чество за счет качества: все посерее, это уже поскребыши, со дна котла.
В глухой провинции остатки местной интеллигенции группируются вокруг обществ краеведения, бывших «архивных комиссий». Со страстью изучают местную этнографию, областное прошлое. «Режимонализм» — единственная легальная форма патриотизма в России. Нужно молчать об отечестве, но модно пламенно говорить о крае. В этих кругах несут свое служение с аскетическим энтузиазмом, который часто связан с религиозным служением православной культуре. Русская икона — новая, открывшаяся область изучения — служит одним из мостов между двумя мирами: научным и религиозным.
Существует ли высшая школа в России? Это вопрос, на который не так легко ответить. Было время — около 1920 года, — когда почти каждый губернский город гордился своим университетом. Разумеется, такой университет, или ИНО, был не более чем Учительским институтом старого времени. Теперь число их поубавилось, но все же превышает наличие ученых сил России. Нивелировка, децентрализация и здесь сказались в упадке столичных и вообще старых (особенно украинских и Казанского) университетов и сравнительном процветании новых, областных, чаще всего восточных центров: в Саратове, Ташкенте, Баку. Многие кафедры заняты педагогами средней школы или коммунистами с партийным стажем. Но рядом с ними работают настоящие ученые старой или новой формации. Студенты? Их квалификация представляет еще большие трудности. Лишь часть их проходит через среднюю школу. Но современная средняя школа не дает особых преимуществ перед рабфаковцем или партийцем. На приемных экзаменах большинство поражает своей общей безграмотностью. Но профессора нередко не нахвалятся их прилежанием. Упорные кроты «грызут гранит науки». Разумеется, им не наверстать пробелов общего образования. Для этого отсутствуют все средства и возможности. Ни философских кафедр в университете, ни настоящих журналов, лекций, культурной среды, наконец, которая вчера обтесывала разночинца. Но у него остается некоторая возможность выработать из себя узкого специалиста. Плохой врач, плохой инженер, но все же не фельдшер, не простой техник. А главное, почти всегда человек с большой волей, с большим вкусом к «строительству» жизни.
Пройдемся мысленно по коридорам русского университета и вглядимся в молодые лица с определенным вопросом: следует ли смотреть на них как на новое поколение русской интеллигенции или как на совершенно новый класс? Я думаю, у каждого создадутся разные впечатления.
==209
По одежде, конечно, вузовцы не очень отличаются от старого демократического студенчества — во всяком случае, более обращают внимания на нее. По лицам, бритым, грубоватым, судить трудно. Обрывки подслушанных разговоров скорее пугают: порчей литературного языка, простонародной фонетикой, морфологией, синтаксисом. Но все это еще не решающее. Вспоминаешь шестидесятые годы с их надрывом дворянской традиции, с языком «шерамуров».Думается, пропасть между современниками Герцена и Чернышевского была не многим меньше той, которую разверз между двумя поколениями русской интеллигенции 1917 год. Но не выходит ли уже последнее поколение за пределы интеллигенции, а его школа за пределы университета? Старый русский университет — по крайней мере в Москве и Петербурге — за последние годы не уступал лучшим в Германии. Но уже к Оксфорду нельзя подходить с континентальной меркой. А университеты есть и в Америке. Мы готовы сказать: меряя американским (или, может быть, австралийским, новозеландским) аршином, — университеты есть и в России.
В таком же смысле решается вопрос и о средней школе. Она выпускает людей полуграмотных, не имеющих понятия об истории, без древних и, в сущности, без новых языков, со скудными обрывками новой русской литературы. Но она сообщает известную сумму математических, естественнонаучных, технических знаний и, что особенно важно, навыков. На школьных выставках поражаешься технической ловкости маленьких дикарей. Они рисуют, лепят, конструируют модели, чертят диаграммы. Иной может построить аэроплан. Есть школы, где физические кабинеты, и очень недурные, оборудованы руками учеников. И потом, они так много видят, так много ходят с экскурсиями и путешествуют. И музей, и фабрика на них производят впечатление. Они знакомы с элементами статистического обследования и имеют некоторое понятие об экономических явлениях. Не забудем, наконец, широкого увлечения музыкой и спортом. Из советской школы выходят односторонние марсиане, но полные активности люди, — быть может, лучше нас вооруженные для жизни.
Если средняя и высшая школа в России до некоторой степени остаются под вопросом, то бытие Академии, и после недавней ломки, не вызывает сомнений. Детище Петрове пережило Елисаветинский университет. Наука в России не погибла, но сильно стеснена в средствах своей работы. Сотни трудов в рукописях ожидают очереди в скупо отмеренных изданиях. То, что выходит, не вызывает тревоги своим качеством. Университет перестал быть семинарием ученых, но его роль заняли различные институ-
==210
ты при Академии, музеи и даже библиотеки, где поддерживается личное общение, на совместной работе, учителя с учениками.
Судьба отдельных наук, конечно, различна. Иные погибли, иные расцвели, в зависимости от случайностей «социального заказа». Физике, например, повезло, благодаря прикладным институтам, связанным с индустрией. Русские физики, среди которых много мировых имен, ведут нелегкую борьбу за сохранение теоретической науки в университете. Но уже чистая математика сильно изувечена. Счастливы дисциплины, которые могут укрыться под сенью «Комиссии по изучению производительных сил России» (геология, почвоведение и др.). Могут работать и биологи, интересующие государство вопросами селекции, евгеники и проч. Но молодежь среди них увлекается и философскими основами науки.
Медицина, конечно, неистребима, поскольку неистребим страх смерти, даже для коммунистов. Но потребность в обслуживании советского аппарата спасла и остатки (практической) юриспруденции от угрожавшей ей, казалось, окончательной гибели.
Теоретическая экономика уничтожена монополией марксизма. Но зато развивается доселе бывшая в пренебрежении экономика практическая и описательная («идиографическая»). Доминируют, естественно, вопросы организации производства и экономической политики.
Сильнее всех пострадал историко-филологический факультет. Он потерял философию совершенно и в значительной мере историю. Лучше сохранились филология и искусствоведение. Почти окончательно погибла, со смертью древних языков, наука классической древности и ме-диевистика, представленная недавно в Москве и Петербурге двумя большими (может быть, непропорционально для России) школами ученых. Презрение к католической культуре и романо-германскому миру одинаково повинны в советском дискредитировании этой науки. Из всеобщей истории уцелела новейшая, как история революций в марксистском освещении. Да еще торжествует Восток — по всей линии: филологической, исторической, археологической. На первом плане и здесь практическая потребность: подготовка дипломатов и революционеров для работы в Азии, но за этим — и бескорыстное увлечение Востоком как оборотная сторона ненависти к Западу.
Русская история спаслась, несмотря на сознательно антирусскую политику Комиссариата (Покровский). Причины — в социальном и экономическом направлении русской историографии в школах Ключевского и Платонова. Старые марксисты воспитаны на Ключевском и переизда-
==211
ют «Очерки смуты» Платонова, по недоразумению, как образец исторического материализма. Наука русской истории (по давней традиции!), не требующая ни иностранных языков, ни филологической культуры, издавна была уделом демократических слоев студенчества. Продолжает она привлекать их и теперь. У стариков можно заметить иногда, как реакцию против духа времени, возрастание интересов к духовной культуре России, но в печати эти интересы находят лишь слабое отражение.
Как это ни странно, необычайно расцветает изучение русской литературы (только не древней). Эта дисциплина всегда была в позорном загоне в русских университетах. Вместо художественного слова изучались нередко направления публицистической мысли — «интеллигенциология». Накануне революции небольшая, но ярко талантливая группа отдаленных учеников Потебни подняла бунт. «Формалисты» рассматривают идеи и сюжет «как явления стиля». Антигуманизм и антиидеализм новой школы создали для нее известную неуязвимость со стороны академической Чека. Большевики их терпят, хотя предпочитают им пролетарских Венгеровых с социологическим подходом. Фактически формалисты господствуют. Они развивают огромную рабочую энергию, которой соответствует не меньшая литературная продукция.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Судьба и грехи России"
Книги похожие на "Судьба и грехи России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Федотов - Судьба и грехи России"
Отзывы читателей о книге "Судьба и грехи России", комментарии и мнения людей о произведении.