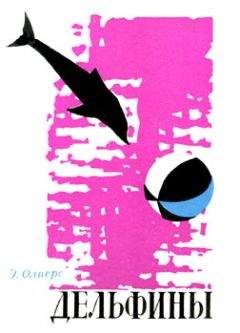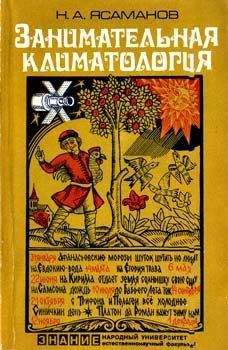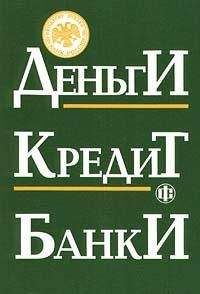Геннадий Обатнин - История и повествование

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "История и повествование"
Описание и краткое содержание "История и повествование" читать бесплатно онлайн.
Сборник научных работ посвящен проблеме рассказывания, демонстрации и переживания исторического процесса. Авторы книги — известные филологи, историки общества и искусства из России, ближнего и дальнего зарубежья — подходят к этой теме с самых разных сторон и пользуются при ее анализе различными методами. Границы художественного и документального, литературные приемы при описании исторических событий, принципы нарратологии, (авто)биография как нарратив, идеи Ю. М. Лотмана в контексте истории философского и гуманитарного знания — это далеко не все проблемы, которые рассматриваются в статьях. Являясь очередным томом из серии совместных научных проектов Хельсинкского и Тартуского университетов, книга, при всей ее академической значимости, представляет собой еще и живой интеллектуальный диалог.
Нужно тем не менее отметить, что в русской критике эти метафоры зачастую использовались в фельетонном ключе. «У него, — писал Боборыкин, — сорвалась с языка фраза: „снимать протокол с действительности“, и его обличают в антихудожественной ереси, в желании свести искусство на степень жалкой фотографии»[759]. Так, В. Басардин иронически сравнивал Золя с «экспериментатором-физиологом», который «проделывает опыты над животными, подвергаемыми вивисекции», а его произведения — с «полицейским протоколом»[760] и «уголовной полицейско-сыскной литературой»[761]. В. Буренин назвал «настоящим полицейским протоколом» исторический роман беллетриста А. Шардина. По словам критика, «никто не воспроизводил» «историю арестования Бирона» «с такими подробностями, с полным, так сказать, перечислением всех тумаков, полученных во время ареста регентом в различные части: в зубы, в бока, в глаза и т. д.»[762].
Метафора «собирания» как прообраз монтажа стала применяться в отношении композиции: «романы-протоколы» и «романы-коллекции» «собираются» по частям, складываются из «элементов», которые с легкостью можно менять местами, из «человеческих документов», из «отрывков человеческой жизни» или «кусков, вырванных из жизни». Буренин, например, называет романы Боборыкина «сборником случаев и историй», «приключившихся не далее как вчера»[763], и «пространными книгами», составленными из механически собранных «кусков» и «полос действительности» «как попало, без связи, без склада»[764]. В этом русле отзывались и об «Анне Карениной» Толстого, описываемой как «сборник человеческих деяний», «галерея», «коллекция фотографических снимков», «лавка торговца гравюр»[765].
В рамках этой «фотографической» поэтики менялось и отношение к литературному герою. И «ученый», и «коллекционер», каждый по-своему, «изучал» «живых (реальных) людей», что стало одним из общих мест в теории натурализма. По словам Золя, писатель «отправляется» «от определенной среды и человеческих документов, взятых прямо из жизни», он «изучает» «своих героев, списанных с натуры»[766]. Подругой его же формуле, «писатели» «хотят просто изучать, вести протокол человека»[767]. Вопрос о «документализации» героя, который теперь становился объектом исследования, был уже решен на программном уровне, и лишний раз об этом свидетельствовали многочисленные пересказы источников. «Наблюдение, — писал критик, — имеет целью открытие „документа“ <…>. Поэтому всякое лицо реалистического романа — лишь двойник действительного человека, которого автор знал»[768]. Близкие рассуждения, позаимствованные на этот раз из монографии П. Бурже, который, в свою очередь, пересказывает И. Тэна, мы найдем и у В. Бибикова, автора и персонажа прототипических текстов: «В существовании человека все должно интересовать психолога. Отсюда уже успевшее набить оскомину выражение: человеческий документ»[769]. Поиск и ожидание прототипа, читательская готовность встретить «себя» в художественном тексте как в некоем «кривом зеркале»[770], становится характерной чертой этой литературной эпохи. Русскую прессу обошла, например, история судебного дела, начатого неким присяжным стряпчим Дюверди, который возмущался тем, что Золя якобы использовал его в качестве персонажа в своем «порнографическом» романе. Изменение по постановлению суда имени Дюверди не спасло писателя от нападок с требованиями переменить имена и прочих персонажей, напоминавших, по мнению «читающей публики», реальные лица[771]. Доде откровенно признавался, что его «романы, писанные все с натуры», «разозлили многих»[772], то же было известно и о произведениях Гонкуров. Буренин, сам писавший тексты с прототипами, назвал эту тенденцию «новой болезнью художников»: «Их мучит страсть составлять публичные протоколы, не пропуская ни одной подробности и рискуя оскорбить друзей и даже родных. В один прекрасный день попадаешь в их произведения со своим именем, жестами, платьем, историей, с своими бородавками <…>»[773].
Прототипизация русской прозы становится явственно ощутимой в последнюю четверть века[774], и здесь значительное место занял роман с ключом, к которому был применен практически весь набор метафор «документализма». Слава «фотографиста» в это время прочно укрепилась за именами П. Боборыкина[775], И. Ясинского[776] и Л. Толстого[777].
«Писание с оригиналов» в русском контексте также связывалось с традициями натуральной школы. Поэтому научно-исследовательский импульс, стоявший, в частности, за рядом прототипических текстов Золя, Гонкуров и их последователей, утрачивал остроту, а доминантной оказалась фельетонная линия, более традиционная для русской прозы и быстро развивавшаяся в 40-е и особенно в 60-е годы[778]. Прототип широко использовался как литературный прием, в основе которого лежала игра на столкновении «вымысла» с «документом». Это станет чертой документальной поэтики Боборыкина: «У Петра Дмитриевича есть склонность к „микстурам“, — писал один из мемуаристов о Боборыкине, — возьмет опишет какую-нибудь свою знакомую девицу с фотографической точностью, да зачем-то сделает ее горбатою; она и обижается»[779].
Однако по мере приближения к концу XIX века вместе с «фельетонистом» приобретал все больший вес и «писатель дневника», или, как его назвал А. Волынский в рецензии на роман Г. Сенкевича «Без догмата», «дилетант жизни и специалист любви»[780]. В центре этого романа оказался именно такой писатель, вошедший в литературу и в качестве ее персонажа: «В наших разговорах о литературе, — декларировал герой на первой же странице, — Святыньский приписывал огромное значение дневникам. Он говорил, что человек, который оставляет после себя дневник, дает будущим психологам и романистам <…> единственный человеческий документ, которому можно верить. Он предсказывал, что беллетристические произведения будущего примут непременно форму дневника»[781].
Тем самым «человеческий документ» продолжал сохранять в русской прозе и свой интимно-исповедальный набор значений с намеченным культом самонаблюдения[782]. Это отразилось на всем репертуаре документальных жанров, в том числе и романе с ключом, в котором стали усматривать не только «пасквиль», но и «мемуар» с элементами исповеди, что открывало новые перспективы этому жанру. Отметим, что именно в этом контексте возникает вопрос о полной прозрачности «оригинала», сравнимой с образами лирики[783].
* * *В начале XX века выражение «человеческий документ» окончательно отрывается от своего основного источника, перестает прямо связываться с теорией французского натурализма и вместе с этим, утрачивая полемическую сущность, теряет свою популярность. Однако, войдя в язык литературной критики, оно не исчезает совсем из поля зрения. Именно в эпоху модернизма, когда быстро развивается процесс вовлечения биографии и бытового интимного текста в сферу культуры, возникли прецеденты переноса его на другие литературные формы. Не случайно, что именно в это время, изобилующее автобиографическими текстами, романами с ключом и жизнетворческими драмами, это определение распространяется на «прототипический» персонаж как таковой[784]. Показательно и то, что, насколько мы можем судить, оно впервые в это время использовано и по отношению к лирике[785], хотя основное значение, которое закрепляется за этим выражением, — это «дневник» и «исповедь»[786].
Наиболее активно оно применялось в отношении писателя, само место которого в литературе было признано особым, находящимся на ее границах, а стиль и жанр не раз описывались критикой как маргинальные. Если концентрированная поэтика В. Розанова стала ярким выражением литературного документализма, то и вся ситуация, сложившаяся вокруг его фигуры, в миниатюре повторила ту, что в свое время образовалась в связи с натуралистами. А в некоторых конкретных деталях рецепция розановского творчества соответствовала реакции критики на «Дневник» Гонкуров, причисляемых З. Венгеровой к особой писательской группе — «литераторам», «аристократии пера». Поэтому не случайно, что выражение «человеческий документ» связалось с текстами именно этого писателя. Рецензии на «Уединенное» и «Опавшие листья» знаменательны уже своими заголовками: «Исповедь одного современника», «Обнаженный нововременец» («нагота» которого «прикрыта чадом и дымом»[787]). Тот ряд сравнений, при помощи которых формировался образ писателя-документалиста в XIX веке, уходил в архив. Но тем не менее было ощутимо их латентное присутствие в образе того же Розанова — авторе и герое собственных книг. Это поддерживалось и его занятиями нумизматикой, ставшими постоянным литературным мотивом розановского творчества. Кроме того, как и коллекционерство Гонкуров, нумизматика у Розанова становилась метафорой литературного жанра, в котором он работал. Образ коллекционера, видоизменяясь, приобретал новые очертания[788]. В творчестве Розанова стали доминировать «мусорные» мотивы, подчеркивающие «человечность» его писаний. Трансформировались в этом контексте и метафорические ряды «протоколов» и «коллекций». «Шкафы», «галереи» и «парфюмерные магазины» здесь преобразуются в «сады Плюшкина», «где свален в кучу всякий хлам, к которому хозяин относится с величайшим вниманием»[789]. Культурный образ Розанова — собирателя мусора жизни — восходит, как кажется, не только к персонажу гоголевского романа, к которому отсылали рецензенты его книг[790], но, через него, в целом к традиции «физиологий», в частности к одному из популярных «типов» этой литературы — типу старьевщика. С другой стороны, с его именем связывалась и роль «сердцеведа», которая, как уже говорилось, прежде в контексте «человеческого документа» приписывалась Гонкуру и Толстому[791]. Но все же главной в этом ряду обличий остается «исповедь». Писатель на пути от образа ученого к образу дилетанта, решается надеть маску «человека», чтобы заняться собственной правдой, перейдя из «анатомического театра» в «лабораторию души»:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История и повествование"
Книги похожие на "История и повествование" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Геннадий Обатнин - История и повествование"
Отзывы читателей о книге "История и повествование", комментарии и мнения людей о произведении.