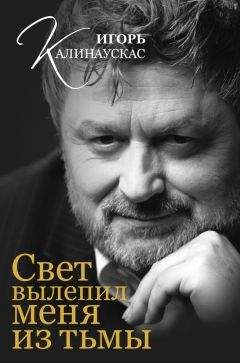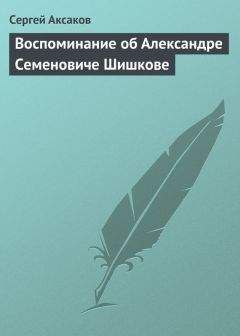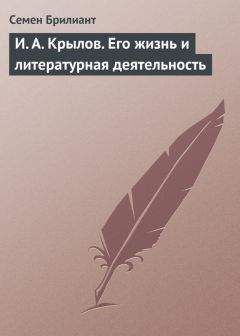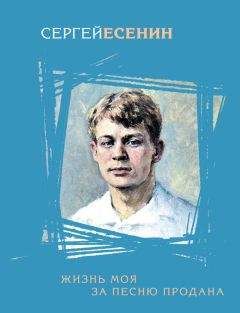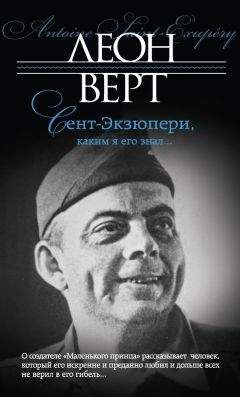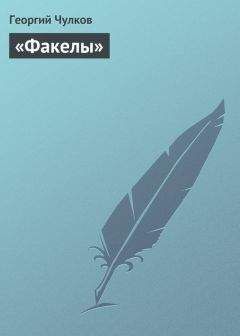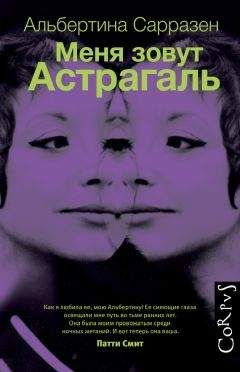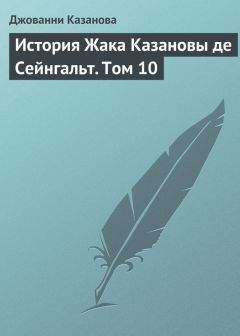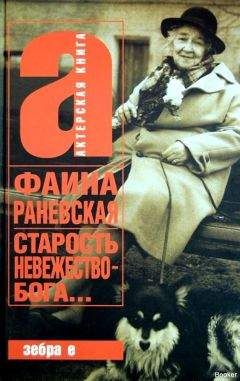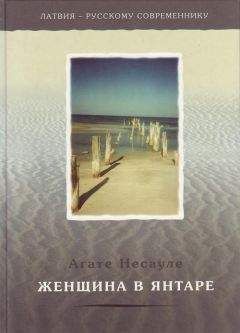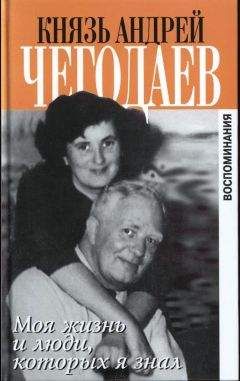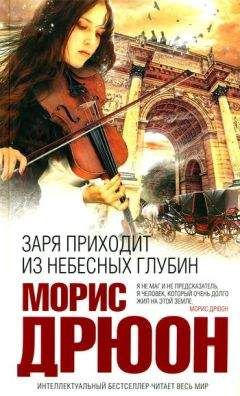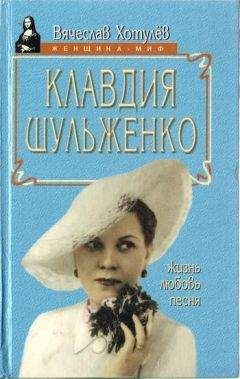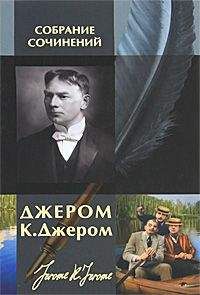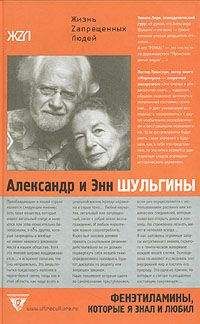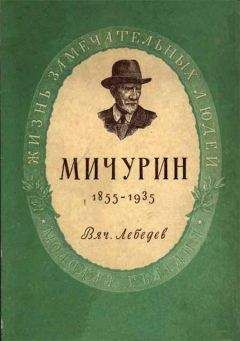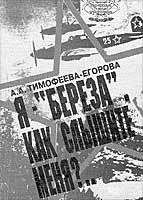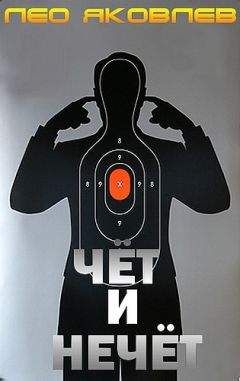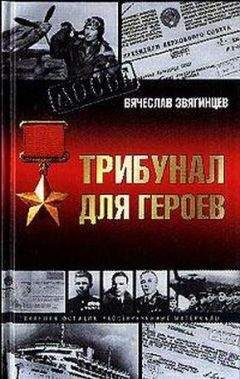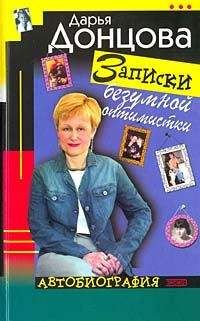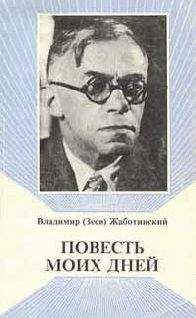Вячеслав Кабанов - Всё тот же сон
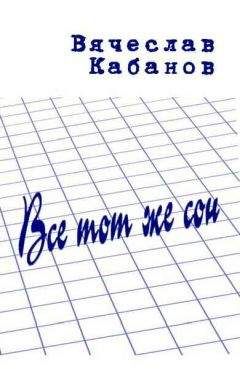
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Всё тот же сон"
Описание и краткое содержание "Всё тот же сон" читать бесплатно онлайн.
Книга воспоминаний.
«Разрешите представиться — Вячеслав Кабанов.
Я — главный редактор Советского Союза. В отличие от тьмы сегодняшних издателей, титулованных этим и еще более высокими званиями, меня в главные редакторы произвела Коллегия Госкомиздата СССР. Но это я шучу. Тем более, что моего издательства, некогда громкославного, давно уже нет.
Я прожил немалую жизнь. Сверстники мои понемногу уходят в ту страну, где тишь и благодать. Не увидел двухтысячного года мой сосед по школьной парте Юра Коваль. Не стало пятерых моих однокурсников, они были младше меня. Значит, время собирать пожитки. Что же от нас остается? Коваль, конечно, знал, что он для нас оставляет… А мы, смертные? В лучшем случае оставляем детей и внуков. Но много ли будут знать они про нас? И что мне делать со своей памятью? Она исчезнет, как и я. И я написал про себя книгу, и знаю теперь, что останется от меня…
Не человечеству, конечно, а только близким людям, которых я знал и любил.
Я оставляю им старую Москву и старый Геленджик, я оставляю военное детство и послевоенное кино, море и горы, я оставляю им всем мою маму, деда, прадеда и любимых друзей — спутников моей невыдающейся жизни».
В последнее время эпистолярная моя подруга все вечера просиживала в нашем доме. Мы пили чай, смотрели телевизор КВН через линзу, а потом я провожал её на Маросейку. Однажды мне так стало лень, что я сказал, что отчего бы, мол, тебе здесь не заночевать… Комнатка отдельная для неё была. Мама не возражала. Чего б ей было возражать: у нас без конца кто-нибудь ночевал, а то и жил. Она заночевала. Потом ещё раз, ещё и ещё… Потом пришла моя скорая первая тёща и заявила, что дочь её ском… скоп… скомпромеНтирована.
Всё это было так скучно. Что-что? Ах, жениться? Да ради Бога! Только б не было шуму. «Они так ждут этого, так уверены, что это будет, что я не могу, не могу обмануть их». Так думал когда-то Пьер. И я так подумал.
И ещё я подумал: да разве ж это плохо? Ведь я уже немолод. Мне целых двадцать три. Я всё уже прошёл, всё видел. Пора уж мне, пора. Да ведь и как же это будет хорошо! И общая постель — не как-нибудь, а с полным правом…
О, вы не знаете, как общая легальная постель тянула нас тогда к женитьбе. Я мог бы перечислить множество своих товарищей, попавшихся на эту закидушку. Не в озабоченности было дело, иные были даже ходоки, но эта брачная свобода свободой именно и представлялась. Я помню, мой славный товарищ по полку Вадик Штейнер, большой срыватель удовольствий, мне как-то говорил:
— Нет, не могу себе представить… Как это так? Вот только вздумал и — пожалуйста?
Он не имел в виду, что это будут будни, нет, он не мог себе вообразить такого счастья.
Да что тут говорить, нас общая постель связала. И я вполне бы мог на этом и остановиться — всё было тихо, плавно… Но всё-таки чего-то не хватало. Не то чтоб ощутимо не хватало, но всё же не было того, что было в институте. Чем дальше, тем и больше. Узелочек завязывался.
А мама ведь мне же говорила…
* * *В институте, в первом же перерыве между лекциями, я собрал свою группу и (презренной прозой говоря) сделал объявление о скорой женитьбе. При этом я прибавил (для поэзии):
— Но это не значит, что общество меня теряет!
Кажется, этого никто не услышал, так были все поражены. Оказалось, все знали про мой сногсшибательный институтский роман. Лишь я о нём не знал. Потом узнал и я, но ещё долго был с этим не согласен.
Ах, институт!
Итак, я был старостой группы и почти всегда отличник, потому что после странствий по волнам житейского моря ученье в этом институте — работа в семинарах, писанье курсовых работ, библиотечный поиск, — всё представлялось мне как нескончаемое счастье.
Ах, институт. Ах, Арусяк Георгиевна Гукасова — Коваль велел мне с ней сдружиться… И я, на удивление, сдружился, хотя, казалось, это затруднительно: она же читала только лекции, и связь была односторонней. Но вот я подошёл к ней сразу после лекции, она не сошла ещё с кафедры. Я подошёл не с тем, чтобы сдружиться. У меня был вопрос. Что-то связанное с Пушкиным, которого она читала. И мой вопрос её обрадовал — свидетельство того, что лекцию я не только слушал, но и воспринимал! Как было не обрадоваться ей, ведь, как потом узналось, ходили в деканат студенты и жаловались, что, мол, Гукасова читает нам всё Пушкина да Пушкина, мы так программу не пройдём, а нам экзамен сдавать. А вдруг Тургенев попадётся!
Арусяк Георгиевна была похожа на старую Ахматову, и когда она говорила «этот пушкинский шедевр», то она не говорила — шедевр, но — шедэ-о-вр! Или как-то, к слову, испугала аудиторию таким замечанием:
— Вот ныне явился такой новый поэт, и его называют Роберт Рождественский… Что же этого такое — Роберт? Я знаю имя Робэ́рт!
По этой, произносительной, части в институте тогда ещё водились хранители заветов. Профессор Мурыгина, читавшая нам древнюю историю, услышала от одного студента что-то такое относительно «восстания Спартака» и побледнела:
— Что вы такое говорите? Вы что не знаете, что Спартак был фракиец? Как можно звучание имени искажать? Запомните: восстание Спартáка! И только так.
А Иван Иванович Лавров, преподающий нам латынь… У нас в группе были чýдные девчонки, и милый Иван Иванович пытался привлечь то одну, то другую к дополнительным занятиям, при этом каждой из них повторяя:
— Что может быть прекраснее советской девушки, знающей латынь?
Тогда на радио вдруг стали произносить отвратительно мягкое «темп» (не тэ). Иван Иванович кипел:
— Темп! Что же это такое? Отвратительно. И откуда могло это взяться? Пока был жив академик Щерба, мы с ним радиокомитет вот как в руках держали! Что же теперь? O tempora! o mores! Да, есть, конечно, Левитан. Прекрасный баритон… Но он же — нуль в классической грамматике! Я не могу ему простить, ведь в сорок третьем году он громогласно произнёс в эфире, что итальянские партизаны захватили Апи́еву дорогу! Надеюсь, вам не нужно пояснять, что эта римская дорога зовётся Áпиева и никак иначе зваться не может!
Те баснословные года… Случилось 125 лет со смерти Пушкина. Арусяк Георгиевна на лекции объявила, что составила пушкинскую анкету, она будет опубликована в институтской многотиражке. «Надеюсь, — сказала Арусяк Георгиевна, — что все вы горячо откликнетесь».
Анкета появилась. Я с жадностью за неё ухватился. Вопросы сначала шли простые: когда начали читать Пушкина? что особенно любите? сколько знаете наизусть?.. Вот это «наизусть» меня более всего затруднило. Нужна была инвентаризация, и я два дня просидел с большим томом, досконально выверяя, что действительно помню, а если в отрывках, то «от каких до каких».
В конце анкеты было приписано, что она может быть подана анонимно, и я решил, что поставить своё имя будет нескромностью.
Прошло недели две, и Арусяк Георгиевна на лекции посетовала, что анкеты в редакцию не поступают, правда, один студент ответил.
— Я очень бы хотела вам эту анкету прочитать, но боюсь давать подсказку.
Ещё позднее, когда я подошёл к Арусяк Георгиевне с очередным вопросом, она сказала:
— Я понимаю, что это ваша анкета. Ведь другие вопросов не задают. Не так ли?
Я смущённо кивнул.
К этому времени Арусяк Георгиевна свела меня с молодым ещё Музеем Пушкина в Хрущёвском переулке, и мне по почте стали приходить приглашения «на вторники», на открытые учёные советы. Там слушал я Цявловскую, Оксмана, Виноградова, Бонди и Гейченко… Там однажды был поставлен доклад Гукасовой. Доклад назывался «Забытый тезис Белинского». Под забытым тезисом разумелось его высказывание относительно того, как чтение Пушкина благотворно для воспитания юношества. Поскольку Гукасова была не просто пушкинист, но и преподаватель в педвузе, ей этот тезис оказался особенно близок.
Я сидел в последнем ряду полукружьями поставленных стульев в Онегинском зале и внимательно слушал. И вдруг Арусяк Георгиевна заговорила об анкете. Она сказала, что в целом результат оказался печальным, что были ответы такого рода, что, мол, «больше всего у Пушкина мне нравится ария Дубровского…»
Но вот была одна анкета… И Арусяк Георгиевна начала цитировать обильно. Я боялся, что все сейчас на меня оглянутся и увидят, что я пылаю — от восторга, смущения и страха. Но никто в мою сторону не смотрел.
Когда доклад был окончен, я подвергся ещё большему испытанию. Директор музея Александр Зиновьевич Крейн, ведущий всегда советы, поблагодарил Гукасову за доклад, а потом спросил, не назовёт ли Арусяк Георгиевна имя этого студента?
— Потому что здесь важно не только что написано, но и то, как написано!
На что Арусяк Георгиевна, слава Богу, из педагогических, видимо, соображений, ответила, что, к сожалению, нет: ведь анкета подана анонимно.
Всеволода Всеволодовна Кожевникова вела для нашей группы семинары по русской литературе XIX века. Я мало что соображал, но многого хотел. И это Всеволоду Всеволодовну ко мне располагало. И вот она придумала для нас особенный зачёт — по одной только лирике Пушкина. Когда об этом было объявлено, я заволновался и снова стал ходить по кругу, по которому уже давно ходил. Как же так? — думал я, — восславил свободу, но веленью Божьему; эхо русского народа, и вдруг живи один… Круг замыкался, а я никак не мог с него сойти, понять, в чём назначение поэта.
Когда я сдавал зачёт, Всеволода Всеволодовна вопросов мне не задавала, она уже знала, что Пушкина я читал — такая редкость. Мне предложено было просто поговорить о Пушкине, о чём бы я хотел. Я снова стал ходить по кругу. Невнятно и косноязычно. Кажется, Всеволода Всеволодовна немного даже растерялась. Она сказала:
— Так… Значит ты вот так… Об этом размышлял… Ну что ж, отлично. Очень хорошо!
И отпустила. А что ж тут было хорошо? Хотя, конечно: кружил-то я при этом — по стихам!
В коридоре дёргались ждущие зачёта. Ко мне подскочил Толя Хайбулин, юноша, приехавший из Алтайского края. Он был симпатичный и старательный студент, единственный на курсе, кто точно знал, зачем он здесь и что будет дальше: Толя получит здесь диплом, вернётся в родное село и будет учить в той самой школе, где когда-то сам учился. Пушкина он, конечно, не читал, по крайней мере — для себя. Но это было и не нужно. Главное — диплом, а дальше есть программа и ясная ответственная процедура подготовки к каждому уроку.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Всё тот же сон"
Книги похожие на "Всё тот же сон" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вячеслав Кабанов - Всё тот же сон"
Отзывы читателей о книге "Всё тот же сон", комментарии и мнения людей о произведении.