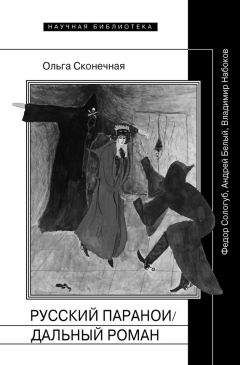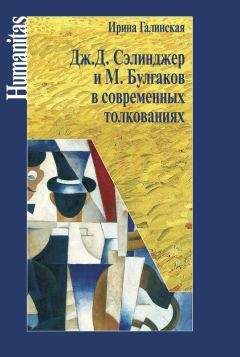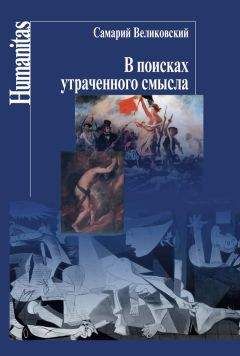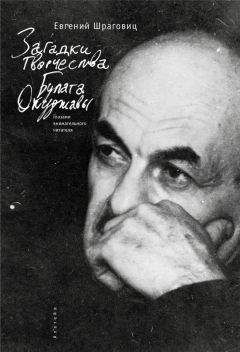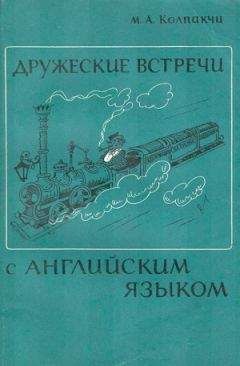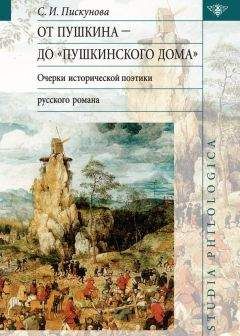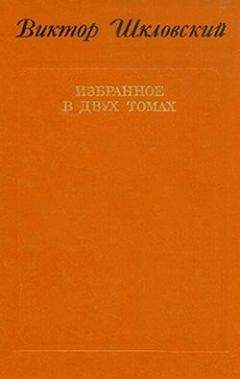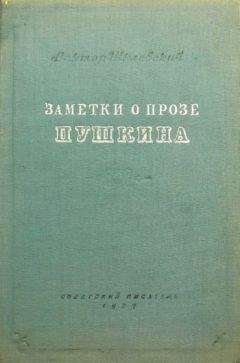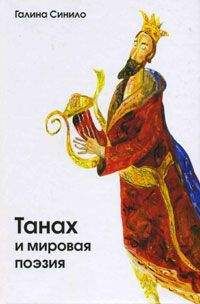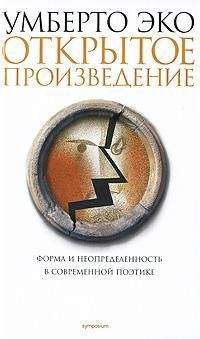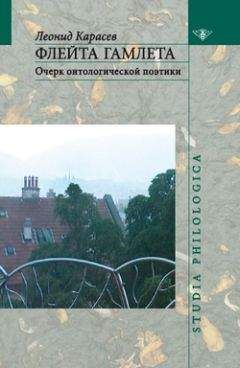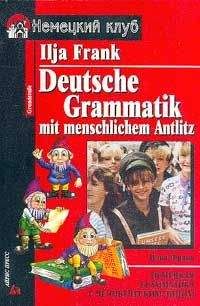Евгений Сошкин - Гипограмматика. Книга о Мандельштаме

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме"
Описание и краткое содержание "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме" читать бесплатно онлайн.
В книге израильского филолога предложено целостное описание поэтики Осипа Мандельштама. В рамках этой задачи конкретизируются, развиваются и многократно тестируются теоретические положения, сформулированные адептами интертекстуального метода еще в семидесятых – восьмидесятых годах прошлого века, но до сей поры не нашедшие систематического применения. Итогом этой масштабной работы становится экспликация ряда метанарративов, которые, в свой черед, обнаруживают общую морфологическую основу, сохраняющуюся на всем протяжении зрелого творчества Мандельштама. Важной составляющей исследования является анализ мандельштамовской адресации к живым и мертвым современникам – поэтам и интеллектуалам, среди которых Вячеслав Иванов, Марина Цветаева, Софья Парнок, Андрей Белый, Виктор Шкловский. Книга снабжена подробными указателями.
Кажется неслучайным, что в написанном этим же размером стихотворении Пастернака «Дождь. Надпись на “Книге степи”» (1919) из книги «Сестра моя – жизнь» есть, во-первых, императив «Наигрывай», варьируемый Парнок в трижды повторенном «Играй»[429], а во-вторых, строка «Еще не всклянь темно!», с которой так схожи строки «Как встарь, темным-темно…» Парнок и «На улице темно?» Мандельштама. Ср. также однотипные наречия во всех трех текстах: всклянь (Пастернак); встарь (Парнок); всласть и вхруст (Мандельштам).
Многолетний поэтический диалог между Парнок и Мандельштамом не изучен, и подоплека мандельштамовской реплики на ее стихотворение может лишь смутно угадываться. Вышедшая в 1922 г. книга Парнок «Розы Пиерии» образами второго своего стихотворения («Лира») была обязана не только лирике Сафо, но и «Черепахе» (1919) Мандельштама[430] (выделяю каждую параллель особым способом):
В другом стихотворении книги, «Снилось мне, – взываю к подругам милым…», содержался перепев одновременно мотивов лирики Сафо («Пещера нимф», «Издалече, из отчих Сард…») и написанного в 1920 г. «Возьми на радость из моих ладоней…»: «Ни анис, ни роза, ни медуница» ← «Их пища – время, медуница, мята».
Косвенной реакцией Мандельштама на «Розы Пиерии» стало известное место из его статьи 1922 г. «Литературная Москва», где «московские поэтессы» аттестуются как «бедные Изиды, обреченные на вечные поиски куда-то затерявшейся второй части поэтического сравнения, долженствующей вернуть поэтическому образу, Озирису, свое первоначальное единство» (II, 102). Как установил О. Ронен, Мандельштам намекает здесь на пародийную трактовку древнего сюжета в изложении Гейне: восстанавливая по частям тело своего растерзанного брата и супруга, «бедная Изида» не смогла отыскать его «главной части» и вынуждена была «удовольствоваться деревянной заменой» [Ронен 2002: 156–157]. Объектами мандельштамовских выпадов были поименно названные в его статье Цветаева, Радлова, Адалис и, наконец, Парнок, в прошлом – подруга Марины Цветаевой и соперница Мандельштама по любовному треугольнику. Дерзкой шутке о «бедных Изидах»[431] непосредственно предшествовало заявление о том, что «единственная женщина, вступившая в круг поэзии на правах новой музы, это русская наука о поэзии». Тем самым Софье Парнок, посредством прозрачной аллюзии на стих из ее новой книги, содержащий традиционное величание Сафо десятой музой[432], отказывалось в присоединении к хороводу муз на правах «русской Сафо» – десятой музы (с учетом, разумеется, созвучности имен: Сафо – Софья[433]).
Спустя два года Парнок опубликовала критическую статью «Пастернак и другие», в которой, похоже, отреагировала на мандельштамовские намеки, объединив Мандельштама с Цветаевой общим упреком в зависимости от Пастернака:
Но вот два созвучия, которые не могут не волновать: Пастернак и – Мандельштам, Пастернак и – Цветаева.
Мандельштам и Цветаева в пути к Пастернаку!
Зачем это бегство? Любовники, в самый разгар любви, вырвавшиеся из благостных рук возлюбленной. Отчего, откуда это потрясающее недоверие к искусству? <…> Конечно, ни Мандельштам, ни Цветаева не могли попросту «заняться отражением современности», – им слишком ведома другая игра, но ими владеет тот же импульс, то же эпидемическое беспокойство о несоответствии искусства с сегодняшним днем. Их пугает одиночество, подле Пастернака им кажется надежнее и они всем своим существом жмутся к Пастернаку [Парнок 1924: 311].
В устах Софьи Парнок эротическая риторика этого фрагмента звучала двусмысленно: в ней, «десятой музе», легко было узнать ту возлюбленную, из чьих благостных рук в самый разгар любви вырвалась Марина Цветаева. Двусмысленным было и объединяющее Мандельштама и Цветаеву определение «любовники».
Между тем, читая статью «Пастернак и другие», мы убеждаемся в том, что в середине 1920-х гг. под исключительным обаянием пастернаковской поэзии находилась прежде всего сама Парнок. Поэтому, чисто гипотетически и с большой степенью огрубления, можно заключить, что Мандельштам, травмированный обвинениями в плагиате, через двойной подтекст АГ отреагировал на этот давний упрек в поэтической несамостоятельности, как бы объединив логику евангельской рекомендации «Врачу, исцелися сам» с логикой революционного девиза «Грабь награбленное».
*** Шуберт *** шубаЦелый ряд ходов и мотивов АГ перекочевал в стихотворения на смерть Ольги Ваксель – «Возможна ли женщине мертвой хвала?..» и «На мертвых ресницах Исакий замерз…», – то с преувеличенной артикуляцией, способной кое в чем прояснить более герметичный источник автореминисценции, то, наоборот, с предельной компрессией. По этим двум текстам 1935 г., друг друга необходимо дополняющим, рассредоточены фрагменты единого мотивного комплекса, поэтому в дальнейшем я буду их обозначать общей аббревиатурой НСВ (= На смерть Ваксель).
В НСВ с вызывающей демонстративностью повторено, казалось бы, несерьезное гипограммирование имени Шуберта в слове шуба: «…И Шуберта в шубе замерз талисман – / Движенье, движенье, движенье…». Слово талисман О. Ронен трактует как аллюзию на «одну сонату вечную», которая, подобно лермонтовской молитве, приобретает значение талисмана [Ronen 1983: 8]. Строка «Движенье, движенье, движенье…», подхватывая строку соседнего стихотворения: «Но мельниц колеса зимуют в снегу», – повторяет слова шубертовской песни «Das Wandern» из цикла «Прекрасная мельничиха»[434] (ср. финал «Шарманки», 1912, по-видимому, объединяющий мотивы скитальческой жизни из «Der Leiermann» и движенья из «Das Wandern»: «Бродяга – я люблю движенье…»). Таким образом, замерзший талисман тождествен замерзшей, т. е. переставшей звучать, песне Шуберта, превратившейся в ледяную слезу[435] (на ресницах умершей) с ретроспективным отражением собора: «На мертвых ресницах Исакий замерз»[436]. Архитектурное сооружение предстает застывшей музыкой, воплощая знаменитый концепт немецких романтиков[437]. Подобно этому скрещиваются и замерзшие органы речи и зрения: вокальная музыка замерзает на ресницах.
Крылатой романтической метафорой осенена вся огромная мандельштамовская тема звучащего камня[438], движение которой по оси ‘природа – культура’ на ранних этапах происходило в направлении от природы к культуре, от «Раковины» (ранняя версия названия первой книги) – к «Камню» с подразумеваемой в нем соборной акустикой[439], а затем, не позднее «Грифельной оды» (1923), – в обратном направлении, от архитектуры – к булыжнику и минералу [Ronen 1983: 76]. Эта регрессивная интенция оказалась сонаправлена настойчивым обращениям к мотиву попятного движения времени или во времени, включая концепцию атемпоральной музыки в «Скрябине и христианстве» («Центр тяжести скрябинской музыки лежит в гармонии: гармоническая архитектоника, архитектоника звучащего мгновения – великолепная архитектоника в поперечном разрезе звучности <…>» (II, 39)) и поразительный сюжет о спуске по лестнице живых существ и утрате органов чувств в «Ламарке» (1932). Обе линии сошлись в «Разговоре о Данте» (1933), где Мандельштам, с одной стороны, все так же заменяя рукотворное зодчество природным, применил романтическую синестезию к «Божественной комедии» (ср. слова о том, что «Дант выращивает кристаллы для звукового ландшафта <…>», подготавливающие великолепную демонстрацию «[а]нтиландшафтн[ого] характер[а] Inferno» (II, 192)), а с другой – вывел из этой синестезии новый синтез – анатомически-непреложный синтез органов чувств (в данном случае переведенный в поэтологическую плоскость: «Дант, когда ему нужно, называет веки “глазными губами”. Это когда на ресницах виснут ледяные кристаллы мерзлых слез и образуют кору, мешающую плакать. <…> Итак, страдание скрещивает органы чувств, создает гибриды, приводит к губастому глазу» (II, 166–167)). Наконец, в НСВ происходит синтез не столько органов чувств, сколько самих чувств на пороге смерти[440].
Но если Шуберт есть синекдоха музыки Шуберта, то почему эквивалентом талисмана оказывается не Шуберт, а Шуберт в шубе? Ответ: талисманом служит музыка звучащая, тогда как Шуберт обозначает музыкальный текст, который должен одеться плотью звучания; шуба есть состояние музыки исполняемой, одежда музыкального текста. То же соотношение между Шубертом и шубой в непроявленном виде есть уже в «Александре Герцовиче»: умерший исполнитель Шуберта подобен шубе, висящей на вешалке[441].
*** наверчивал *** Всё… Заверчено давноРяду образов и мотивов АГ Б. А. Кац нашел близкие аналоги в раннем стихотворении Мандельштама «Бесшумное веретено…» (1909) и убедительно проследил к общему для них подтексту – гетевско-шубертовской песне Маргариты за прялкой. В частности, Кац отмечает, что «“наверчивать” Шуберта проще всего, играя фортепианное сопровождение этой песни, в котором без конца повторяется лишь слегка варьируемая звуковая фигура, сама по себе построенная по принципу вращения» [Кац 1991: 75][442].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме"
Книги похожие на "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Сошкин - Гипограмматика. Книга о Мандельштаме"
Отзывы читателей о книге "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме", комментарии и мнения людей о произведении.