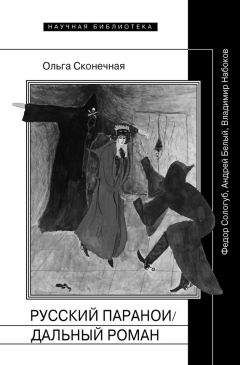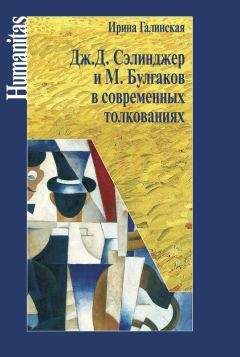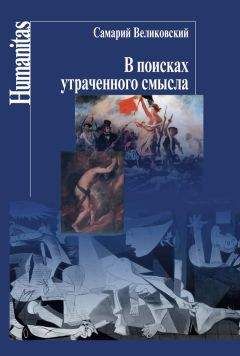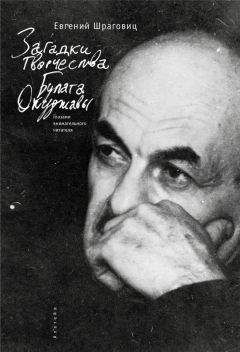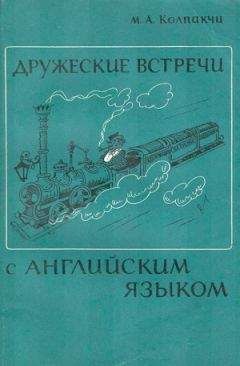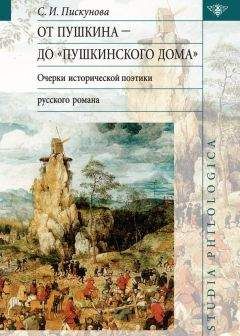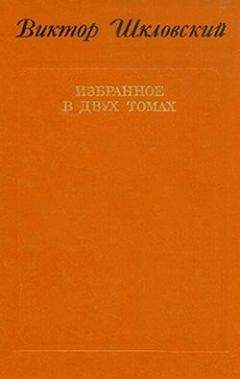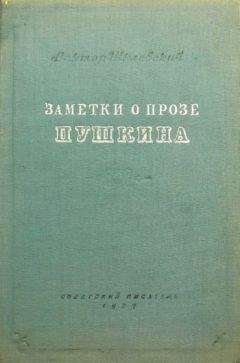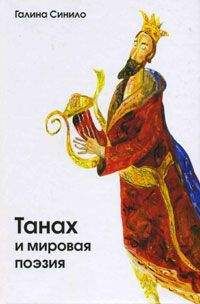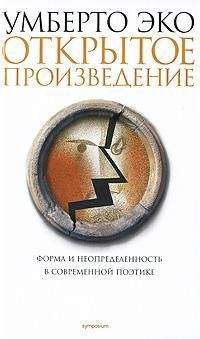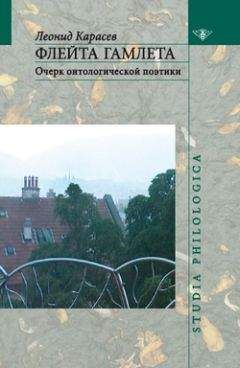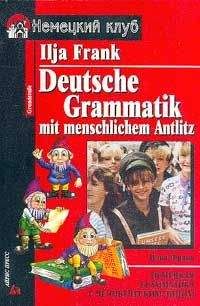Евгений Сошкин - Гипограмматика. Книга о Мандельштаме

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме"
Описание и краткое содержание "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме" читать бесплатно онлайн.
В книге израильского филолога предложено целостное описание поэтики Осипа Мандельштама. В рамках этой задачи конкретизируются, развиваются и многократно тестируются теоретические положения, сформулированные адептами интертекстуального метода еще в семидесятых – восьмидесятых годах прошлого века, но до сей поры не нашедшие систематического применения. Итогом этой масштабной работы становится экспликация ряда метанарративов, которые, в свой черед, обнаруживают общую морфологическую основу, сохраняющуюся на всем протяжении зрелого творчества Мандельштама. Важной составляющей исследования является анализ мандельштамовской адресации к живым и мертвым современникам – поэтам и интеллектуалам, среди которых Вячеслав Иванов, Марина Цветаева, Софья Парнок, Андрей Белый, Виктор Шкловский. Книга снабжена подробными указателями.
Наконец, первый из ряда глаголов прошедшего времени несовершенного вида, с которого и начинается стихотворение, – Жил – при отсутствии обстоятельства места (например, «в Ленинграде») однозначно указывает на то, что это некогда длившееся действие завершилось и музыкант уже умер. Мотив готовности к смерти (не страшно умереть) подсказывает, что смерть музыканта явилась результатом той самой загадочной коллизии, в связи с которой была выражена эта готовность. Однако рефренный характер финала стихотворения, в котором Александр Герцович вновь оказывается участником коммуникативного акта, входит в противоречие с фактом его смерти – то ли в повествовательном, то ли в риторическом плане.
Мы могли убедиться, что АГ характеризуется последовательно нарушаемой синтагматикой событийно-описательного ряда, что оно несостоятельно в плане референции. Попросту говоря, «песенка» не поддается линейному пересказу. Это принципиально ограничивает интерпретатора в выборе позитивной стратегии: нелинейность мандельштамовского письма должна быть осознана не как обманный маневр, обеспечивающий тексту герметичность, а как подсказка иного способа чтения, такого же нелинейного. Сообразно этой задаче, нижеследующие заметки посвящены изучению отдельных сегментов стихотворения в, условно говоря, парадигматическом аспекте, – конечно, не альтернативных форм и значений слов и их синонимов, а метафорического и семантического инвариантов, интертекстуальных кодов, биографических коннотаций, – в расчете на самостоятельное проявление единого смыслового субстрата.
*** вороньей шубою На вешалке висетьСама по себе воронья шуба есть или 1) метафора вороньего оперенья, или 2) невиданный предмет – шуба из вороньих перьев, или, наконец, 3) обычная шуба черного или темно-серого цвета, плачевное состояние которой позволяет сравнить ее не то с вороньим опереньем, не то с шубой из вороньих перьев[397]. Значение (1) нерелевантно, поскольку «шуба» в этом значении неотторжима от самой вороны, а значит, не может висеть на вешалке. Воронья шуба в значении (2) может представлять собой либо а) одежду, покрытую перьями, либо б) одежду, сшитую из некоего подобия звериной шкуры, но только покрытой не ворсом, а пером. Этот последний вариант, наряду с образом шубы, сшитой из множества таких птичьих «шкурок», допускает и другой образ, в котором чудесным образом соединены разномасштабные объекты: образ шубы, изготовленной из оперенья одной-единственной вороны – то ли обыкновенной, и тогда шуба из нее пришлась бы впору карлику величиной с ворону, то ли огромной (что лучше сочетается с образом стандартной вешалки). Получается, что фантастическая воронья шуба в значении (2б) изготовлена из метафорической вороньей шубы в значении (1), хотя та, казалось бы, имманентна своей носительнице, ведь оперенье является частью самой вороны. Возникающий здесь парадокс укоренен в самом языке, поскольку в значении (1) исходный объект смыслового переноса – не шуба в буквальном смысле, а стертая метафора – шуба животного, то есть покрывающий животное мех. Парадоксальность этого исходного языкового клише состоит в том, что метафорическая шуба может относиться только к меху живого зверя, а реальная шуба делается из этого же меха, снятого со зверя убитого. Тем самым метафорическая каузальность имеет направление, противоположное реальной каузальности, ее породившей. Но поскольку шуба из вороньих перьев – нонсенс, воронья шуба возвращает стертой метафоре ее исконную жестокость[398].
Биографические импликации этого образа, вскрытые Б. А. Кацем, с которым в этом вопросе нельзя не согласиться, отсылают к мандельштамовскому конфликту с А. Г. Горнфельдом в 1928–1929 гг. и текстам, написанным в ходе этого конфликта и по его следам:
Эпиграфом к письму в редакцию «Вечерней Москвы» Мандельштам взял слова из письма Горнфельда в «Красную Вечернюю газету» (курсив мой)[399]: «Когда, бродя по толчку, я узнаю, хотя бы в переделанном виде, мое пальто, вчера висевшее у меня в прихожей, я вправе сказать: “А ведь пальто-то краденое”». Как известно, Мандельштам переделал «пальто» в чрезвычайно многозначную в его текстах «шубу», и в «Четвертой прозе» читаем: «Я <…> несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать как пасквильный анекдот жаркую гоголевскую шубу <…>». Отсюда, видимо, и возникло: «вороньей <ср. ворованной – Б.К.> шубою на вешалке висеть» [Кац 1994: 258][400].
В самом деле, эпитет воронья не просто намекает на то, что шуба является ворованной, но пробуждает соответствующий семантический потенциал шубы как образной константы в сознании поэта. В частности, шуба ассоциируется у Мандельштама с чужой, заемной личиной: в его версии «Легенды об Уленшпигеле» маскировочная одежда мнимого оборотня названа волчьей шубой [Костер 1928: 387], тогда как в обоих переводах, положенных в основу мандельштамовской компиляции, этому словосочетанию соответствует волчья шкура (см. [Костер 1916: 413] и [Костер 1919: 154]). Такая семантика шубы в свой черед притягивает ворону или ворона. Уже в давнем очерке «Шуба» (1922) обнаруживается прецедентное по отношению к вороньей шубе сопряжение спорного статуса шубы как собственности (она является агентом прежнего своего хозяина на жизненном пути нынешнего) с семантикой (зло)вещей птицы, способной заговорить: «Отчего же неспокойно мне в моей шубе? Или страшно мне в случайной вещи, – соскочила судьба с чужого плеча на мое плечо и сидит на нем, ничего не говорит, пока что устроилась» (III, 23).
Однако в качестве эвфемизма эпитет воронья основывается не только на квазиэтимологической мотивировке вороватости[401] (а именно падкости на все, что блестит, «как чистый бриллиант»[402]), этой важной составляющей репутации вороны (и вóрона как ее коррелята[403]), не только на соответствующих коннотациях шубы в мандельштамовской прозе и публицистике этого периода, но также и на другом, смежном эвфемизме – вешалка в значении виселица, каковое значение удостоверяется словами «Не страшно умереть»[404] и прослеживается к неотвязному образу плечей-вешалок (читай: палачей-виселиц) в «Египетской марке», где тот служит синекдохическим обозначением как линчевателей, так и их жертвы, обвиненной в воровстве[405]. Эта неизбежная ассоциация[406] подкреплена и прямым семантическим обменом – в рамках общей инфернальной топики – между траурно окрашенной и демонически-зловещей, способной «накаркать беду» птицей[407], охочей до мертвечины[408] и внушающей смешанное со страхом отвращение[409], – и виселицей как орудием маркированно позорной казни[410].
Наконец, и сам по себе образ человека-шубы на вешалке, освобожденный от виселичных коннотаций, тем не менее заключает в себе мотив гибели – если не физической, то гражданской, – так как разрабатывает ту же тему, что и стихи, написанные в один период с АГ, – тему светопреставленья как толкотни в гардероб[411] и физической покорности гражданина, поддающегося любым трансфигурациям, словно одежда: «Ночь на дворе. Барская лжа: / После меня хоть потоп. / Что же потом? Хрип горожан / И толкотня в гардероб. <…> Шапку в рукав, шапкой в рукав – / И да хранит тебя Бог»; «Запихай меня лучше, как шапку, в рукав / Жаркой шубы сибирских степей…». Стихотворению «За гремучую доблесть грядущих веков…», откуда взята вторая из двух цитат, Мандельштам дал домашнее название «Надсон» (из-за надсоновского подтекста)[412] и считал его чемто «вроде романса» [Мандельштам Н. 2006: 248]. Одновременность работы над АГ и «Надсоном», при общей для них установке на песню, бросает новый свет на фигуру еврейского музыканта, стремящегося интегрироваться в чужую манящую культуру: Надсон, чью строку парафразирует название брошюры Горнфельда «Муки слова»[413], приведшее Мандельштама в бешенство, воплощает собой незримую промежуточную стадию в мандельштамовском уничижительном самоотождествлении со своим пародийным двойником – Александром Герцовичем[414].
*** ВороньяВозвращаясь к тезису Б. А. Каца о том, что воронья (= ворованная) шуба отзывается полемикой вокруг обвинения Мандельштама в плагиате, нужно добавить, что квазиэтимология слова воронья служит лишь вспомогательным доводом в пользу этого тезиса, тогда как основным доводом тут является древний вороний миф, основанный на способности как вороны, так и ворона к механическому воспроизведению человеческой речи[415]. О вороне как синониме плагиатора чаще всего писали в связи со знаменитым выпадом, предположительно в адрес Шекспира, в литературном завещании Роберта Грина, опубликованном посмертно (1592), где автор призывал не доверять актерам, «ибо среди них завелась одна ворона-выскочка, разукрашенная нашим опереньем. Этот человек “с сердцем тигра в шкуре лицедея” считает, что также способен греметь белыми стихами, как лучший из вас, тогда как он всего-навсего “мастер на все руки”, возомнивший себя единственным потрясателем сцены в стране»[416]. Пояснения шекспировского биографа заслуживают пространной цитаты:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме"
Книги похожие на "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Сошкин - Гипограмматика. Книга о Мандельштаме"
Отзывы читателей о книге "Гипограмматика. Книга о Мандельштаме", комментарии и мнения людей о произведении.