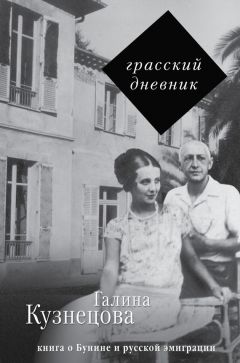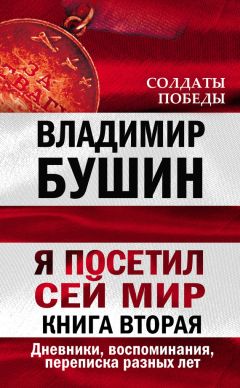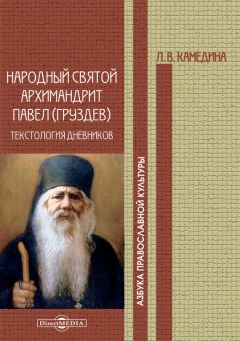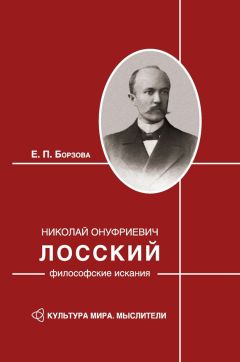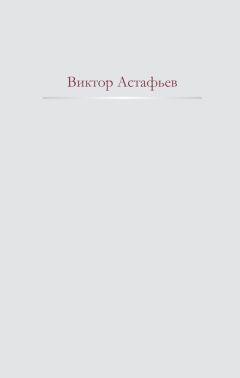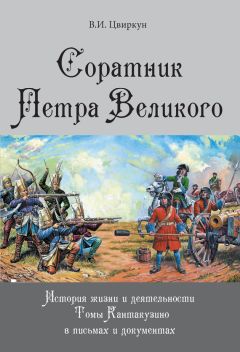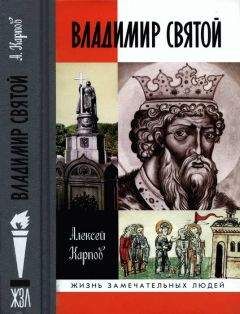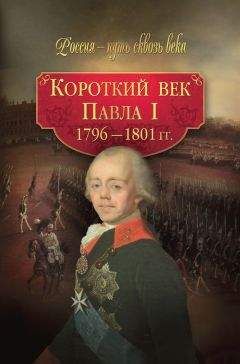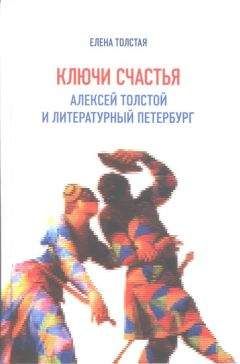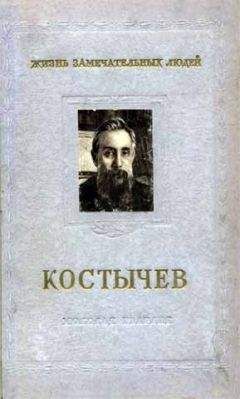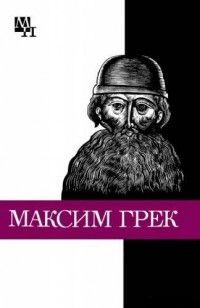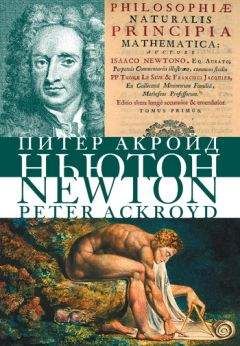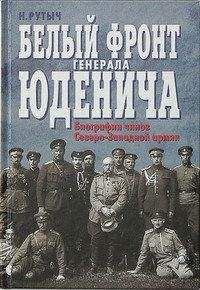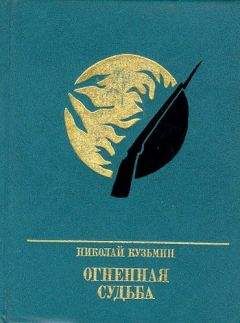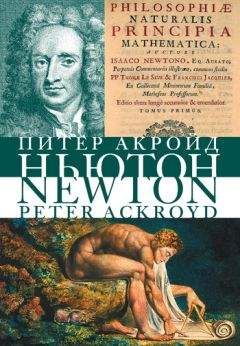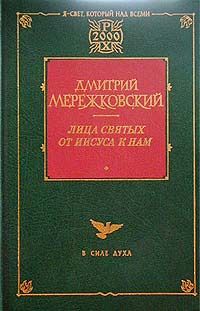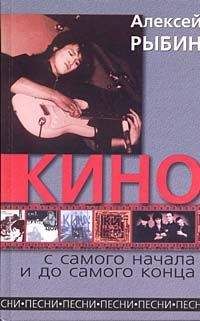Николай Павлюченков - Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект
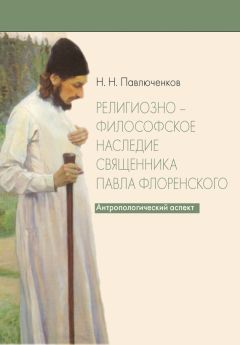
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект"
Описание и краткое содержание "Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект" читать бесплатно онлайн.
Священник Павел Флоренский (1882–1937) – выдающийся мыслитель начала XX в., поставивший цель в своем религиозно-философском и научном творчестве проложить пути к будущему цельному миропониманию. Данная работа посвящена одному из наименее изученных аспектов его творческого наследия, включающего в себя представления о месте человека в мире, строении и назначении человека. Систематическая реконструкция антропологии о. П. Флоренского предпринимается на основе большого количества источников: религиозно-философских трудов, писем и записей о. П. Флоренского, охватывающих весь период его творческой деятельности на свободе и в заключении на Дальнем Востоке и в Соловецком лагере. Работа включает также рассмотрение основных периодов творческой биографии о. Павла и важных особенностей его личного духовного и мистического опыта.
Книга адресована философам, богословам, историкам русской философии и всем интересующимся вопросами религиозно-философского учения о человеке.
В 1899 г. происходит внутренний кризис, который о. Павел спустя годы характеризует как «обвал» или «взрыв»[170]: «В какую-нибудь минуту пышное здание научного мышления рассыпалось в труху…»[171]. Это было еще только крушение «научных» ценностей в сознании, но не обращение к религии; поэтому – хотя уже и без веры в абсолютность научного знания, но по настоянию отца – в 1900 г. Флоренский поступает на физико-математический факультет Московского университета. Для этого периода (1900–1904) он делает замечательную запись: «Университет: открытие человека как начала познавательного»[172].
Можно долго анализировать круг знакомств и влияний, связанных с учебой Флоренского в Москве[173], но одно из них выделяется особо по важности для нашей темы. Это преподаватель математики в Московском университете Н. В. Бугаев (1837–1903), с которым Флоренский сблизился как на почве любви к математике, так и в связи с дружбой с его сыном – А. Белым (Б. Н. Бугаевым, 1880–1934). Обращают внимание на свидетельство Н. Н. Лузина, который учился вместе с Флоренским в Университете и согласно которому «все его (т. е. Флоренского. – Н. П.) работы не имеют цены в области математики. Намеки, красивые сравнения – что-то упивающее и обещающее, манящее и безрезультатное. Способности и тут видны, только пока нет результатов»[174]. Но для него ведь и важны были прежде всего «намеки и красивые сравнения», а не «результаты» в научном знании, «пышное здание» которого, построенное в ранней юности, уже рухнуло. Флоренский обращал математику в средство свидетельства реальности иного мира и наглядного пояснения своих философско-богословских построений.
Так, например, необходимость догмата в богословии он очень удачно сравнивал с возникшей на известном этапе развития математики необходимостью введения «иррационального числа». Так же, по аналогии с математическими функциями, он пытался пояснить некий закон – «тип возрастания», которым определяется духовное развитие человека (работа «О типах возрастания», 1906), причем сам «тип возрастания» оценивался им как наиболее глубинная из всех логических характеристик человеческой личности[175]; математические понятия потенциальной и актуальной бесконечности он использовал как иллюстрацию наличия двух «сторон бытия» личности – «условного» и «безусловного» Я[176]. В 1915 г. в работе «Смысл идеализма» он касается разработанной в математическом анализе второй половины XIX в. теории инвариантов и намечает перспективы ее использования в философии[177], а в 1922 г. («Мнимости в геометрии») применяет теорию мнимых чисел для объяснения картины двуединой символической реальности[178]. Наконец, из числа многих других примеров можно отметить его свидетельство относительно «Столпа», высказанное в 1921 г.: «Тут делается попытка применить ряд математических понятий и операций… к проблемам духовной жизни, использовать в целях философских самый дух математики, по возможности оставляя математический аппарат в стороне… (курсив мой. – Н. П.)»[179].
«Мне говорят родное ряды Фурье, – пишет он в «Воспоминаниях» (1920), – и другие разложения, представляющие всякий сложный ритм как совокупность простых, как бесконечную совокупность простых». И о. Павел не соглашается с Г. Лейбницем, который считал, что человек не воспринимает каждый отдельный ритм мироздания. Наши смутные восприятия, согласно Лейбницу, суть результат впечатлений, производимых на нас всем универсумом. Нет, и в шуме морского прибоя, и в падении капель воды, сочащейся с пещерных сводов и стен, «мы слышим, – пишет о. Павел, – и падение капли, и падение частей капли, и так до бесконечности, когда прислушиваемся», когда войдем в само сердце, в глубины нашей души. «В ритмах слышны и еще ритмы, и тоже до бесконечности. Они бьются как бесчисленные маятники, устанавливающие время всей мировой жизни, разные времена и разные пульсы бесчисленных живых существ»[180]. Здесь фундаментальная идея Флоренского (относимая им к древнейшему, «общечеловеческому» миросозерцанию) о живой, непосредственной связи человека со всем миром.
Именно в университете, в период «катарсиса», Флоренский открывает человека как «познавательное начало», и это связано, по-видимому, прежде всего с работами Н. Бугаева, который не только выдвинул идею о перестройке всего научного и философского мировоззрения на идее прерывности, но и предложил новую, так называемую эволюционную монадологию. Если монады Лейбница «не имеют окон» и познают внешний мир из самих себя, то у Бугаева монады способны преодолевать свое эгоистическое самотождество и вступать во взаимные отношения любви, образуя диады, триады и т. д. «Эволюция» в данном случае означает процесс совершенствования монад, конечная цель которого, «с одной стороны, поднять психическое содержание монады до психического содержания целого мира, с другой – целый мир сделать монадой»[181].
Концепция способности и необходимости для монады выходить за свои пределы через отдающую, «истощающую» любовь – основная в метафизике «Столпа». Как реальное «выхождение из себя» и «вхождение» в другого в «Столпе» определяется акт познания, которому таким образом придается онтологический характер[182]. При этом помимо Н. Лосского Флоренский ссылается на работу С. Н. Трубецкого «Метафизика древней Греции» (1890)[183], т. е. опять мы наблюдаем в этом очень важном моменте антропологии Флоренского связь с университетским, «катарсическим» периодом. Соединение математики и философии, влияние исследований Н. В. Бугаева и С. Н. Трубецкого главным образом и сформировали те взгляды, с которыми, «расчистив» себя от «современности», Флоренский пришел в Московскую духовную академию.
В «Столпе» Флоренский не станет выделять монадологию Н. Бугаева, а назовет основным открытием архим. Серапиона Машкина онтологический процесс, когда «вместо пустого, мертвого и формального самотождества А=А, в силу которого А должно было бы самостно, самоутвержденно, эгоистически исключать всякое не-А», получается «полное жизни, реальное самотождество А, как вечно отвергающегося себя и в своем самоотвержении вечно получающего себя»[184]. Но впрочем, в том же 1908 г., когда писались вышеуказанные строки «Столпа», он отдает дань в этом отношении и Платону: в пробной лекции «Общечеловеческие корни идеализма» он говорит, что это Платон указал, «как рушится и падает непроходимая стена между субъектом и объектом, как Я выходит за пределы своего эгоистического обособления, как открытою, широкою грудью вдыхает оно горный воздух познания и делается единым со всем миром…»[185].
По завершении периода «катарсиса» Флоренский входит в мир религии через Платона и с Платоном, полагая, что (как будет сказано им в 1915 г.) платонизм – «естественная философия всякой религии», «возбуждающая струя в религиозной мысли человечества»[186]. По окончании академии (1908) он делает упор на «удивительном сходстве» между учением Платона «и миропониманием еще более древних предков наших, теряющихся в тумане древности»[187]. Платонизм, утверждает он, корнями своими «привлекает к себе почвенную влагу общечеловеческих верований», и в этом причина его «вечности». «Ведь Платон… цветок народной души»[188]. В 1915 г. он также скажет весьма утвердительно: «… В платонизме явились осознанными целые полосы, целые миры народной религии и общечеловеческого жизнепонимания»[189]. Платон – «глубочайший из язычников»[190], «глубокий и мудрый мыслитель» («Культ и философия», 1918)[191], понятия «народное», «платоновское» и «церковное» тождественны («Иконостас», 1922)[192], «В храме мы стоим лицом к лицу перед платоновским миром идей» («Храмовое действо как синтез искусств», 1922)[193]. Применительно к антропологии «платонизм» Флоренского скажется на концепции, согласно которой человек в своей познавательной ценности – «лицо лица» или «лик» человека – это платоновская идея[194] со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Можно сказать, что период «катарсиса» завершается для Флоренского философским (по Платону) оправданием его личного опыта ощущения в Природе и (гораздо менее) в человеке иной, более высшей реальности, чем это представляется в эмпирии. При этом в важных вопросах свидетельства об этой реальности он хочет поставить на службу философии математику, полагая, что ее потенциал почти неограничен, вплоть до возможности «теснейшего соприкосновения» даже с такой далекой от нее областью, как нравственное богословие (об этом, правда, он пишет уже на 2-м курсе МДА, в конце 1905 г., в работе «О типах возрастания»[195]). В «Воспоминаниях» окончание университета (весна 1904 г.) обозначено о. Павлом как новый кризис, закончившийся на сей раз обращением к религии. В июне 1904 г. он пишет, по образцу платоновского диалога, «Беседу» («Эмпирея и эмпирия»), в которой помимо вопросов о Богочеловеке, таинствах и иной реальности речь заходит о возможности «абсолютного мировоззрения». Такое мировоззрение должно раскрывать смысл жизни, давать действительность в ее истине и правде, раскрывать право на существование того, что мы имеем в реальности. Один из собеседников спрашивает другого: имеет ли он уже такое мировоззрение, далось или удалось оно ему? «Многое для меня не вполне разработано, – таков ответ, – еще больше неуясненного в логических формах… Но если не само мировоззрение, то начала, основы его уже имеются (курсив мой. – Н. П.)». Оно не «удалось» и не «далось», а «дано». И это церковное христианство; «абсолютное мировоззрение есть кафолическое христианство»[196].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект"
Книги похожие на "Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Павлюченков - Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект"
Отзывы читателей о книге "Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект", комментарии и мнения людей о произведении.