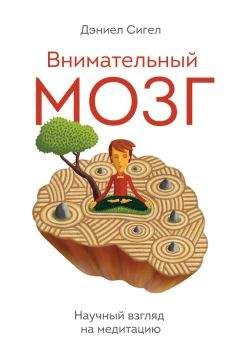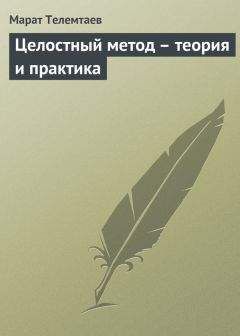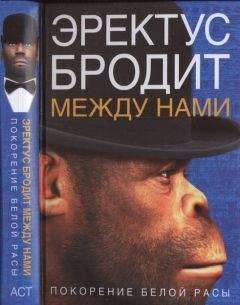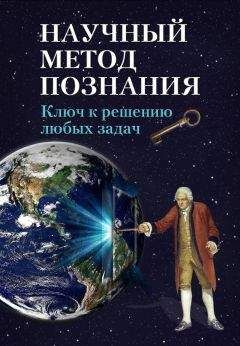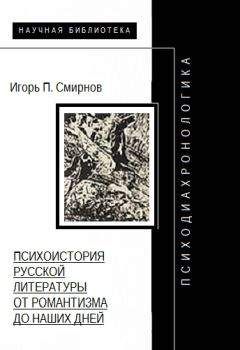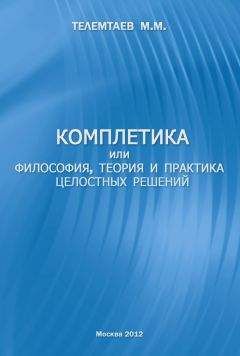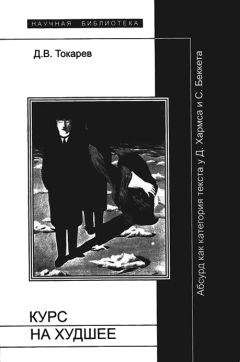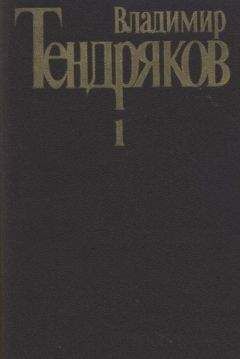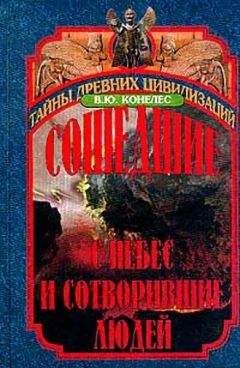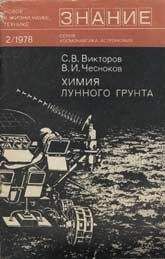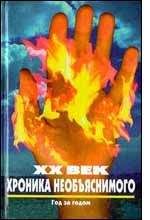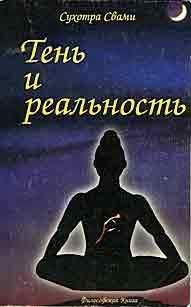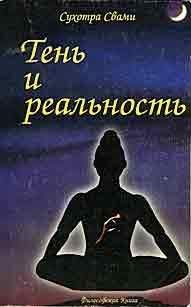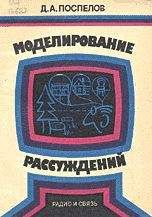Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Описание и краткое содержание "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе" читать бесплатно онлайн.
Борис Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов русской эмиграции первой волны. Все в нем привлекало внимание современников: внешний облик, поведение, стихи… Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и монпарнасский денди; тонкий художественный критик — и любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого»; «русский сюрреалист» — и почитатель Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева ставится задача комплексного анализа поэтики Поплавского, причем основным методом становится метод компаративный. Автор рассматривает самые разные аспекты творчества поэта — философскую и историческую проблематику, физиологию и психологию восприятия визуальных и вербальных образов, дискурсивные практики, оккультные влияния, интертекстуальные «переклички», нарративную организацию текста.
Вызывает протест то, с какой легкостью исследователи творчества Поплавского оперируют понятием «автоматический»[127]. В «автоматические» тексты попадает и «Истерика истерик», и стихи сборника «Флаги», и оба романа[128], не говоря уже о «Дневнике Аполлона Безобразова». Получается, что Поплавский, на протяжении более чем 15 лет только и делал, что писал «под диктовку бессознательного». Возникает вопрос: а приходил ли он когда-нибудь в сознание?
Мне кажется, во-первых, что методологически неправильно экстраполировать понятие, получившее свое художественное воплощение не ранее 1919 года (когда стали выходит тексты, объединенные позднее в «Магнитные поля») и теоретическое обоснование в 1924 году в «Манифесте сюрреализма», на тексты Поплавского, написанные до его прибытия во Францию. Во-вторых, тот метафизико-поэтический метод, который был в развернутой форме обоснован Поплавским в 1929 году (см. предисловие) и который подразумевал «отбор и извлечение» образов из некой трансцендентальной сферы, ассоциируемой с музыкой, имеет мало общего с сюрреализмом и скорее говорит о тесной связи поэтики Поплавского с символизмом. Даже Татищев, склонный сопоставлять поэзию своего друга с сюрреалистической, предпочитает говорить о «полуавтоматизме» и «полусознании»[129]. К тому же Поплавский никогда не отдавал в печать свои тексты, не подвергнув их радикальной стилистической обработке. Более того, он многократно их переписывал. Тот же Татищев сообщает:
Каждое его стихотворение кажется импровизацией. На самом деле, он иногда до сорока раз переписывал одно стихотворение — не исправлял отдельных слов или строк, но все сплошь, от начала до конца. Это для того, чтобы сохранить характер импровизации, чтобы все вылилось единым махом, без ретуши, которая в стихах так же заметна, как заплаты на реставрированных картинах[130].
В принципе само понятие автоматизма оставалось для Поплавского не до конца ясным — об этом говорит его неправильное толкование поэтики Джойса.
В-третьих, даже неоспоримое пристрастие Поплавского к «дурманящим» образам и к развернутой метафоре не является достаточным аргументом для безоговорочного причисления его к русским сюрреалистам. Образы у Поплавского зачастую не «помещаются» в ту классификацию произвольного образа, которую Бретон дал в «Манифесте сюрреализма». По мнению Бретона,
самым сильным является тот образ, для которого характерна наивысшая степень произвольности и который труднее всего перевести на практический язык <…> — либо потому, что в нем содержится огромная доза совершенно явной противоречивости, либо потому, что один из его элементов прелюбопытнейшим образом отсутствует, либо потому, что, заявляя о своей сенсационности, он в конечном счете обнаруживает полнейшую банальность (так, словно резко сдвигаются ножки циркуля), либо потому, что дает самому себе совершенно смехотворное формальное обоснование, либо потому, что имеет галлюцинаторную природу, либо потому, что он совершенно естественно облекает абстрактные явления в маску конкретности (или наоборот), либо потому, что он построен на отрицании какого-нибудь простейшего физического свойства, либо потому, что вызывает смех[131].
При этом, как указывает Ж. Шенье-Жандрон, только галлюцинаторный образ и образ, у которого отсутствует один из элементов, могут считаться «безусловно сюрреалистическими»[132].
Все сказанное не означает, конечно, что между творчеством Поплавского и сюрреализмом нет ничего общего. Поэт живо интересовался всеми новейшими течениями французской литературы[133], и в его стихах 1920-х годов можно найти немало отзвуков этого интереса. Некоторые его метафоры могут непосредственно восходить к сюрреалистической поэзии, но могут и толковаться в более широком контексте французской литературы второй половины XIX — начала XX века. Подобно тому, как сами сюрреалисты находили источники своей образности у Рембо и Лотреамона, Поплавский обращается как к современным ему течениям, так и к предшественникам, в творчестве которых он черпает вдохновение. Не стоит забывать и о таком важном для Поплавского источнике, как русский авангард, типологическую близость к которому демонстрируют ранние стихи, и русский символизм, оказавший значительное влияние на образную и мотивную структуру «Флагов».
Пик интереса Поплавского к сюрреализму пришелся не на вторую половину 1920-х годов, как полагали раньше, а скорее на начало 1930-х, когда были написаны «Автоматические стихи»[134]. Это говорит о том, что Поплавский был вполне самостоятелен в своей поэтической деятельности и его отношение к сюрреалистам было не «сыновним» отношением прилежного ученика, а отношением уважительно-братским; именно так, «братьями», поэт их и называет в статье «О смерти и жалости в „Числах“».
Еще одно свидетельство независимости Поплавского от сюрреалистской доктрины — его полная нечувствительность к критике, которой Бретон подверг во «Втором манифесте сюрреализма» (1929) Рембо, Бодлера и Эдгара По[135]. Напомню, что именно в это время Поплавский пишет первый вариант финала «Аполлона Безобразова», в котором «следы» Рембо и По «проступают» достаточно явно.
Отдельно стоит сказать о самом романе, в котором, по словам Менегальдо, «воссоздана сюрреалистическая атмосфера» (Неизданное, 468). Но достаточно ли одной атмосферы, под которой подразумевается смесь реального и фантастического, чтобы определить роман как сюрреалистический? Стоит иметь в виду, что сюрреалисты критически относились к самому романному жанру; в первом «Манифесте сюрреализма» Бретон объявил о несовместимости романа и сюрреализма. Тем не менее спустя два года после «Манифеста» вышел роман Луи Арагона «Парижский крестьянин» (1926), а сам Бретон опубликовал в 1928 году повесть «Надя». Отвергая психологизм и реализм классического романа, сюрреалисты стремились в своей прозе не к правдоподобию, а к выражению истинных ощущений, отсюда их интерес к дневниковой форме, которая при этом максимально «объективизируется», становясь «документом», подобным записям психоаналитика. О том же, по сути, говорит и Поплавский, когда утверждает, что «существует только документ, только факт духовной жизни. Частное письмо, дневник и психоаналитическая стенограмма — наилучший способ его выражения» (О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Неизданное, 257).
Структурные особенности сюрреалистического романа также определяются установкой на антипсихологизм и алогичность:
Сюрреалистическая фрагментарность соответствовала глобальной установке на отказ от рационализма и логики, — поясняет Е. Д. Гальцова. — Вместо логики — нагромождение самых разных и не поддающихся причинно-следственной связи эпизодов, состыкованных по принципу «объективной случайности», то есть случайных совпадений, на основе которых выстраивается некое подобие сюжета. В целом, можно говорить о метасюжете сюрреалистической прозы — это «путешествие» по неким реальным и фантастическим местам и одновременно некий духовный путь, приводящий к постижению сюрреальности[136].
На первый взгляд, «Аполлон Безобразов» построен по схожей модели; так, по мнению О. Каменевой, текст Поплавского и роман Арагона «Парижский крестьянин» «отмечены сходством в построении романного пространства и организации повествования. Они конструируют автобиографическое пространство, в котором повествование ведется от первого лица, персонифицирующего самого автора (Арагон) или одну из ипостасей его автобиографического образа (Поплавский)»[137].
Тем не менее, хотя романы Поплавского воспринимались современниками как несомненно автобиографические, писатель — как это будет показано в главе «„Рукописный блуд“: дневниковый дискурс Поплавского» — постоянно манипулирует авторскими масками, что в принципе противоречит сюрреалистской установке на предельную искренность прозы. Бретон наверняка причислил бы Поплавского к порицаемым им «эмпирикам романа, что выводят на сцену персонажей, отличных от автора, и расставляют их на свой лад физически и морально, а с какой целью — этого лучше и не знать. Из одного реального персонажа, о котором они претендуют иметь некое представление, они делают двух для своей истории; из двух реальных они без всякого стеснения лепят одного»[138].
Традиционно считается, что два основных персонажа романа — Васенька, вся внешность которого «носила выражение какой-то трансцендентальной униженности» (Аполлон Безобразов, 22), и его противоположность Аполлон Безобразов, для которого «прошлого не было, который презирал будущее и всегда стоял лицом к какому-то раскаленному солнцем пейзажу, где ничего не двигалось, все спало, все грезило, все видело себя во сне спящим» (Аполлон Безобразов, 25), — персонифицируют две стороны натуры самого Поплавского. В то же время, несмотря на реальную автобиографическую основу, оба персонажа «собираются» из некоего интеллектуального «конструктора», элементами которого служат реальные исторические фигуры, персонажи чужих текстов, архетипические фигуры мировой мифологии, визуальные образы, почерпнутые из живописи, абстрактные философские категории и понятия. Так, Васенька «собирается» из пушкинского Евгения («Медный всадник»), князя Мышкина («Идиот»), испанского средневекового святого Иоанна Креста. Аполлон Безобразов — из римских императоров Марка Аврелия и Юлиана Отступника, древнегреческого философа Гераклита и стоика Эпиктета, Николая Ставрогина («Бесы»), повествователя «Песен Мальдорора» Лотреамона, героя романа Альфреда Жарри «Суперсамец» Андре Маркея, господина Тэста из одноименного произведения Поля Валери[139] и, возможно, из вполне реального поэта Александра Гингера. К тому же образ Безобразова явно имеет визуальные прототипы в творчестве Леонардо да Винчи, Постава Моро и Джорджо Де Кирико.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Книги похожие на "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Отзывы читателей о книге "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе", комментарии и мнения людей о произведении.