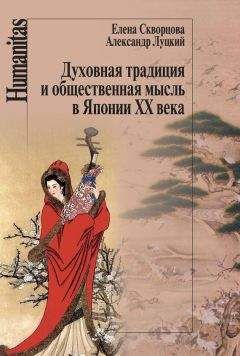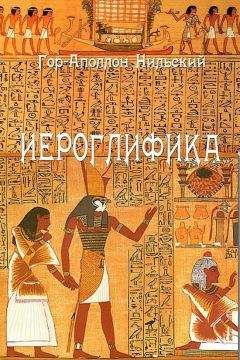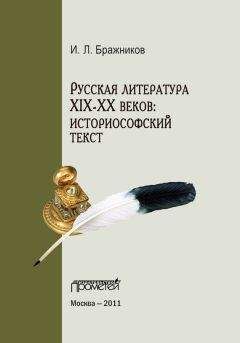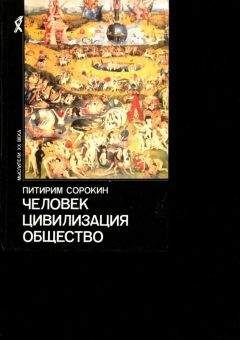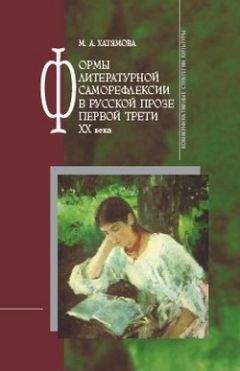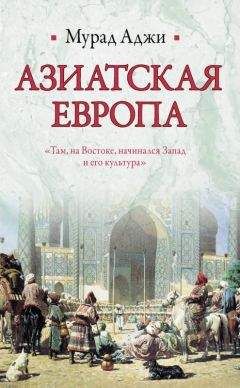Андрей Аствацатуров - Феноменология текста: Игра и репрессия
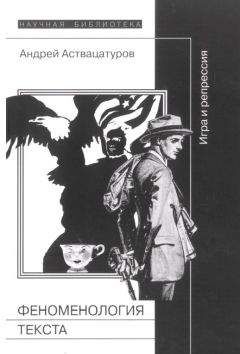
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Феноменология текста: Игра и репрессия"
Описание и краткое содержание "Феноменология текста: Игра и репрессия" читать бесплатно онлайн.
В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века. И здесь особое внимание уделяется проблемам борьбы с литературной формой как с видом репрессии, критической стратегии текста, воссоздания в тексте движения бестелесной энергии и взаимоотношения человека с окружающими его вещами.
Именно от этой стратегии Хемингуэй отказывается, создавая как своего героя-повествователя Джейкоба Барнса, так и структуру романа «Фиеста». Описанная нами модель все же возникает в контексте «Фиесты» в качестве темы и отчасти даже способа повествования, но лишь как объект хемингуэевского анализа и критики. Автор романа препарирует ее и выявляет ее психологические основания. Субъектом данной модели оказывается Роберт Кон[256]. Он предстает как персонаж, разыгрывающий роль романтического героя. Повествователь вводит Кона в реальность романа, представляя его как пытающегося любой ценой утвердить свое «я» во враждебном мире. Это едва ли осознанное юношеское стремление находит свое выражение в занятиях Кона боксом: «Роберт Кон когда-то был чемпионом Принстонского колледжа в среднем весе. Не могу сказать, что это звание сильно импонирует мне, но для Кона оно значило много. Он не имел склонности к боксу, напротив — бокс претил ему, но он усердно и не щадя себя учился боксировать, чтобы избавиться от робости и чувства собственной неполноценности, которое он испытывал в Принстоне, где к нему как к еврею относились свысока. Он чувствовал себя увереннее, зная, что может сбить с ног каждого, кто оскорбит его, но нрава он был тихого и кроткого, никогда не дрался, кроме как в спортивном зале»[257]. Важно, что мир не враждебен Кону (и всякому человеку), а безразличен по отношению к нему[258]. Однокурсники, несмотря на его чемпионский титул, не обращают на Кона никакого внимания, и никто, с кем он учился, даже не может его вспомнить: «Никто из его сокурсников не помнил его. Они даже не помнили, что он был чемпионом бокса в среднем весе» (4). Кон ложно интерпретирует внеположную ему действительность и вносит в нее смысл (враждебность), которого в ней нет. Подобного рода попытка навязать свое «я» реальности, ориентируясь на ложные ценности, становится в романе объектом иронии Хемингуэя. Эпиграфам к «Фиесте» (слова Гетруды Стайн и цитата из Екклесиаста), напоминающим читателю о текучем, бренном характере всего материального, и в том числе человеческого[259], иронически противостоит фраза, открывающая роман: «Роберт Кон когда-то был чемпионом Принстонского колледжа» (3). Герой именно погружен в суету (о которой говорит Екклесиаст), подчинив свою жизнь ничтожнейшим целям, имеющим преходящий смысл. Парадоксальность ситуации заключается в том, что, пытаясь утвердить свою индивидуальность, Кон тем самым ее утрачивает, попадая во власть стереотипов — ложных ценностей. Кон оказывается конформистом[260]. Он увлекается эпигонскими романтическими текстами, вроде книг У. Г. Хадзона, и начинает строить собственную жизнь по их моделям: «<…> он начитался У. Хадзона. Занятие как будто невинное, но Кон прочел и перечел „Пурпуровую страну“. „Пурпуровая страна“ — книга роковая, если читать ее в слишком зрелом возрасте. Она повествует о роскошных любовных похождениях безупречного английского джентльмена в сугубо романтической стране, природа которой описана очень хорошо. В тридцать четыре года пользоваться этой книгой как путеводителем по жизни так же небезопасно, как в этом же возрасте явиться на Уолл-стрит прямо из французской монастырской школы вооруженным серией брошюр „От чистильщика до миллионера“. Я уверен, что Кон принял каждое слово „Пурпуровой страны“ так же буквально, как если бы это был „Финансовый бюллетень“» (7). Сквозь призму романтических стереотипов и романтической риторики[261] Кон и воспринимает мир, принимая их за собственные чувства и мысли. Романтическая тяга к запредельному реализуется в его ситуации как желание отправиться в далекий экзотический мир Южной Америки. Кон стремится уйти от ответственности адекватного и непосредственного восприятия действительности в реальность условных схем. Его эмоция, которую он принимает за глубокое индивидуальное чувство, на самом деле условна, ибо она не имеет оснований в его личности, а заимствована из романтического текста: «Мне было жаль Кона. Я ничем не мог ему помочь, потому что я сразу наталкивался на обе его навязчивые идеи: единственное спасение в Южной Америке, и он не любит Парижа. Первую идею он вычитал из книги и вторую, вероятно, тоже» (10). Это качество переживаний Кона становится очевидным, когда читатель узнает, что Кон вообще неспособен испытывать чувства, вызванные реальным миром. «Я уверен, что он ни разу в жизни не был влюблен», — говорит о Коне Варне. Когда герои проезжают живописную Испанию, Кон засыпает: «Показались длинные бурые хребты, поросшие редкой сосной, и буковые леса на далеких склонах гор. Дорога сперва шла по верху ущелья, а потом нырнула вниз, и шофер вдруг дал гудок, затормозил и свернул в сторону, чтобы не наехать на двух ослов, заснувших на дороге. Горы остались позади, и мы въехали в дубовый лес, где паслись белые козы. Потом пошли поляны, поросшие травой, и прозрачные ручьи, мы пересекли один ручей, миновали сумрачную деревушку и снова стали подниматься в гору <…>. Немного погодя горы кончились, появились деревья по обе стороны дороги, и ручей, и поля спелой пшеницы, и дорога бежала дальше, очень белая и прямая, а потом мы въехали на пригорок, и слева на вершине горы показался старинный замок, тесно окруженный строениями, и колыхаемое ветром пшеничное поле, поднимающееся до самых стен. Я оглянулся через плечо — я сидел впереди рядом с шофером. Роберт Кон спал, но Билл смотрел по сторонам и кивнул мне» (64). Внушая себе любовь к выдуманному им самим образу Южной Америки, Кон невосприимчив к красоте реальной природы. В любовных переживаниях Кона и его поведении по отношению к Брет обнаруживается та же псевдоромантическая модель. Исполненный условных, сентиментальных чувств, он возводит ее к книжному идеалу, вновь избегая ответственности ее адекватного восприятия. Кон искренен, но у читателя возникает ощущение, что герой разыгрывает роль рыцаря, погруженного в возвышенно-платоническую страсть, молчаливо опекающего свою прекрасную даму: «Кон встал и снял очки. Он стоял наготове, изжелта-бледный с полуопущенными руками, гордо и бесстрашно ожидая нападения, готовый дать бой за свою даму сердца» (122).
Барнс понимает, что поведение Кона обусловлено его нарциссизмом, любованием своей позой: «Кон все еще сидел за столом. Лицо его стало изжелта-бледным как всегда, когда его оскорбляли, но вместе с тем, казалось, ему это приятно. Он тешил себя ребячливой полупьяной игрой в герои: все это из-за его связи с титулованной леди» (122). После скандала и драки с Барнсом и Педро Ромеро Кон дважды как заученную роль повторяет одну и ту же слезливую сцену раскаяния, словно герой неудачной сентиментальной мелодрамы и, безусловно, наслаждается трагедийностью своей любви. Таким образом, попытка субъекта свести свой внутренний (и внешний) мир в единую систему оказывается бессильной. В результате человек лишь замыкается в сфере уничтожающих индивидуальность стереотипов.
Нас в данном случае интересует эксплицированная Хемингуэем интенция создать антиромантический текст. Однако представление о том, что «Фиеста» — своеобразная реализация романтической позы самого автора, показывающая красоту человеческого поражения (Барнса), отнюдь не лишена основания[262].
Образ Кона связан в романе Хемингуэя не только с отрицанием романтизма (или эпигонского псевдоромантизма), но и с представлением о фиктивности психологизма и психологического героя. Такие современники Хемингуэя, как Дж. Джойс и Т. С. Элиот, включают не удовлетворяющие их стратегии порождения текста в мир своего произведения, но при этом играют с ними, препарируют, интерпретируют их, выявляя их условность. В свою очередь, автор «Фиесты» выносит эту интерпретационную работу за пределы своего романа. В отличие от Джойса и Элиота, он не играет с принятыми конвенциями психологической прозы а, лишь указав на них, от них отказывается. Обратимся вновь к началу романа. Повествователь, имени которого мы еще не знаем (можно предположить, что рассказ будет вестись от третьего лица), сообщает нам, что Роберт Кон был чемпионом Принстона по боксу в полутяжелом весе, а затем излагает его биографию. Читатель вправе ожидать, что главным героем романа станет именно Кон, а определенный отрезок его жизни — магистральной сюжетной линией романа. Однако ожидание читателя оказывается обманутым, и Кон с его проблемами отодвинется на второй план. Хемингуэй отвергает привычную логику, знакомый нам стереотип художественной стратегии.
Итак, «психологический» субъект (романтический герой) и способы его воссоздания, какими пользуется традиционная литература, непригодны для автора «Фиесты». Подобно своим современникам, представителям французского художественного авангарда, Хемингуэй ставит своей целью депсихологизировать человека. Напряженная работа мысли, движение эмоций, ограниченные пределами внутреннего мира субъекта, сменяются в «Фиесте» его открытостью и подчеркнутой ориентированностью на явления внешнего мира. Человеку интеллекта, создающему умозрительные логические схемы, Хемингуэй противопоставляет «человека зрения» или «человека действия»[263]. Реальность в «Фиесте», даже пропущенная сквозь призму восприятия Джейкоба Барнса, предстает перед читателем в большей степени увиденной, чем осмысленной: «Машина поднялась в гору, пересекла освещенную площадь, потом еще поднялась, потом спустилась в темноту и мягко покатила по асфальту темной улицы позади церкви Сент-Этьена-дю-Мон, миновала деревья и стоянку автобусов на площади Контрескарп, потом въехала на булыжную мостовую улицы Муфтар. По обеим сторонам улицы светились окна баров и витрины еще открытых лавок. Мы сидели врозь, а когда мы поехали по старой тряской улице, нас тесно прижало друг к другу. Брет сняла шляпу. Откинула голову» (18). Хемингуэй, как и многие его современники, стремится развести зрение и познание (умозрение), представив первое как непосредственное и близкое к истинному восприятие, а второе — как попытку набросить на реальность сетку стереотипных представлений. Повествователь и герой романа Джейкоб Барнс именно «видит» явления, т. е. адекватно их воспринимает. И если Кон выстраивает между собой и миром непреодолимую преграду в виде умозрительных конструкций, то Барнс вовлечен в мир. Он видит себя одновременно субъектом и равноправным объектом среди других объектов, предметов видимого мира. Здесь задействовано именно тело и его функции (зрение и действие, движение), обнаруживающее себя среди других тел. Данная проблема рассматривается в работе М. Мерло-Понти «Око и Дух». «Мое тело, — пишет Мерло-Понти, — способное к передвижению, ведет учет видимого мира, причастно ему, именно поэтому я и могу управлять им в среде видимого»[264]. Развивая эту идею, Мерло-Понти разделяет мышление и зрение: «Это совершенно особого рода взаимоналожение, над которым пока еще достаточно не задумывались, не дает права рассматривать зрение как одну из операций мышления»[265]. Хемингуэй, как мы видим, предугадал построения французского феноменолога. Восприятие Барнса направлено непосредственно на объект. Это не значит, что его мышление не успевает подключиться к восприятию: вторжение мышления неизбежно для всякого человеческого существа. Но Барнс обладает способностью видеть в нем построения, спрашивая себя, почему он думает так, а не иначе. Он в состоянии отделить прямое восприятие явления или ситуации от сугубо субъективных, не связанных с объектом восприятия импульсов или умозрительных конструктов, рождающихся исключительно в области его «я». Сознание Барнса ориентировано на зримый облик, на поверхность вещей. В отличие от романтичного Кона, он не ищет их глубинного смысла и не пытается свести их в единую систему причин и следствий. Его адекватность сопряжена с внутренней ответственностью и этической невозможностью подчиниться стереотипам и умозрительным ценностям, т. е. со свободой[266]. Интересно, что Барнс не отвергает идею Бога и — хотя с оговорками — называет себя «католиком». Однако необходимость принять мир во всем его многообразии, в его молчании и безразличии, оказывается настолько сильной, что Барнс, внутренне сожалея, все же признает свою неспособность испытывать религиозные чувства.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Феноменология текста: Игра и репрессия"
Книги похожие на "Феноменология текста: Игра и репрессия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Аствацатуров - Феноменология текста: Игра и репрессия"
Отзывы читателей о книге "Феноменология текста: Игра и репрессия", комментарии и мнения людей о произведении.