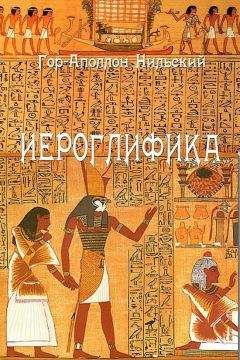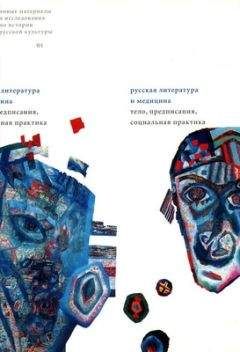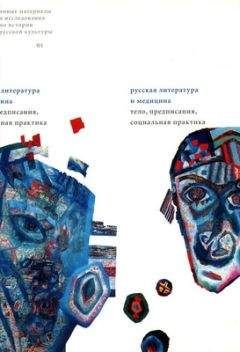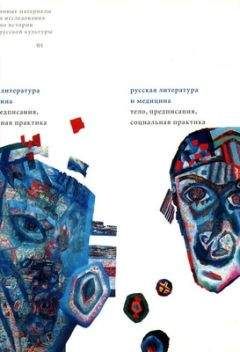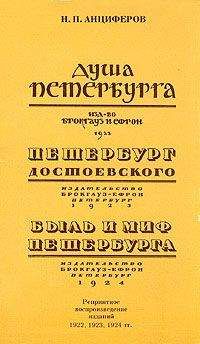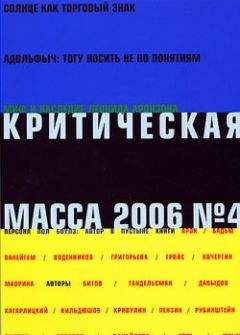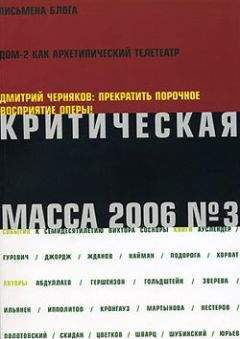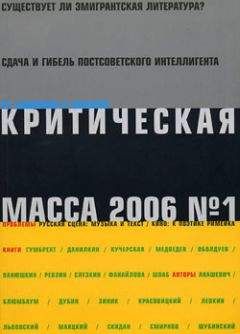Андрей Аствацатуров - Феноменология текста: Игра и репрессия
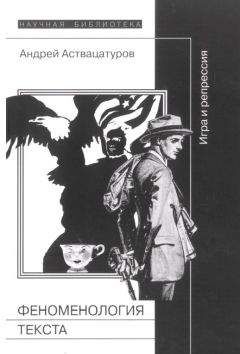
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Феноменология текста: Игра и репрессия"
Описание и краткое содержание "Феноменология текста: Игра и репрессия" читать бесплатно онлайн.
В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века. И здесь особое внимание уделяется проблемам борьбы с литературной формой как с видом репрессии, критической стратегии текста, воссоздания в тексте движения бестелесной энергии и взаимоотношения человека с окружающими его вещами.
Глава 10
Дж. Д. Сэлинджер: опыт чтения
Джером Дэвид Сэлинджер некогда принадлежал к числу наиболее читаемых в России американских писателей. Пик его популярности у нас пришелся на начало 1960-х годов, когда нонконформизм сэлинджеровского Холдена как нельзя лучше соответствовал романтически приподнятому настроению, охватившему советскую интеллигенцию в период хрущевской «оттепели». Сэлинджер воспринимался в контексте таких модных в те годы фигур, как, скажем, Василий Аксенов, чей «Звездный билет» был во многом созвучен роману «Над пропастью во ржи». Цензура не препятствовала появлению переводов из Сэлинджера, а потом и публикациям его книг в СССР. Его рассказы, повести и роман казались вполне безобидными, в них не было ничего антисоветского и антикоммунистического. Сам Сэлинджер никогда публично не высказывался против СССР. К тому же поэтика его текстов была далека от «вредных» для отечественного читателя формальных ухищрений модернизма. Сэлинджера окрестили «реалистом», т. е. приверженцем «правильного» литературного направления. Было отмечено, что он обнажает пороки и противоречия буржуазного общества, хотя попутно и ему попеняли на то, что не сумел-таки показать пути их преодоления, как это делали его современники, советские писатели, вооруженные единственно верной и передовой марксистско-ленинской идеологией.
Через какое-то время сиюминутные высказывания литературных критиков о Сэлинджере уступили место серьезным исследованиям, и писатель превратился в объект академической науки. О Сэлинджере стали писать статьи, монографии[272] и защищать диссертации[273].
В последние годы интерес к Сэлинджеру как у литературоведов, так и у широкой читательской публики заметно снизился[274]. И причин тому немало. Для читателя-интеллектуала Сэлинджер оказался отодвинут на задний план своими современниками, доселе неизвестными и лишь недавно переведенными. Кроме того, Сэлинджер, не склонный воспринимать текст как игру, явно не вписывается в современную моду на постмодернизм. Что же касается широкой аудитории, то сэлинджеровский нонконформизм органически чужд ей сегодня и выглядит старомодной романтикой на фоне всей массовой литературной и журнальной продукции, убеждающей в необходимости любой ценой добиться успеха, утвердиться, закрепиться в общественном пространстве.
О событиях жизни Сэлинджера исследователи, как правило, пишут с большой осторожностью, поминутно оговариваясь, что приводимые ими факты либо не точны, либо не подтверждены. Эта таинственность вызвана прежде всего нежеланием самого автора как бы то ни было комментировать свою биографию и вообще что-либо о себе рассказывать. Его добровольное затворничество почти полностью остановило исследования в этой области.
И по сей день жизнь Сэлинджера, уже ставшего классиком литературы XX в., так и остается для критиков и журналистов загадкой. Впрочем, в 1988 г. известный американский филолог Иан Хэмильтон выпустил большую биографию Сэлинджера, которая по сей день является наиболее полным и авторитетным исследованием жизни писателя. Приступая к ней по заказу издательства «Рэндом Хаус», он послал письма родственникам Сэлинджера и ему самому с просьбой ответить на ряд вопросов. В ответном письме писатель, в свою очередь, попросил Хэмильтона не беспокоить его близких. Сэлинджер также добавил, что хотя он не может остановить автора будущего исследования, он все же считает необходимым сообщить ему, что всегда очень болезненно переживал вторжение посторонних людей в свою частную жизнь[275].
В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть некоторые аспекты поэтики Джерома Дэвида Сэлинджера в их связи с мировидением писателя. Нас, во-первых, интересует специфическое отношение Сэлинджера к вещам, которое нашло отражение в «Девяти рассказах», и, во-вторых, изображение психологии человека, раскрываемой в повестях о Глассах.
«Девять рассказов»: эффект реальности
Уже первые критики Сэлинджера сразу обратили внимание на то, что он подробнейшим образом описывает предметы, возникающие в его повествовании, и нюансы действий, осуществляемых персонажами. Автор может подробнейшим образом рассказывать, как герой (героиня) наполняет стакан, или как он (она) зажигает сигарету, затягивается и стряхивает пепел. Обратимся к началу хрестоматийного текста Сэлинджера «Хорошо ловится рыбка-бананка»:
«Телефон звонил, а она наносила маленькой кисточкой лак на ноготь мизинца, тщательно обводя лунку. Потом завинтила крышку на бутылочке с лаком и, встав, помахала в воздухе левой, еще не просохшей рукой. Другой, уже просохшей, она взяла переполненную пепельницу с диванчика и перешла с ней к ночному столику — телефон стоял там. Сев на край широкой, уже оправленной кровати, она после пятого или шестого сигнала подняла телефонную трубку»[276].
В отрывке, как мы видим, упоминается большое число предметов и действий, с ними связанных: лунки ногтей, руки героини, кисточка от бутылочки с лаком для ногтей, крышка с этой бутылочки, переполненная пепельница, диванчик, край оправленной кровати, ночной столик, телефон, телефонная трубка. Несложно заметить их явный переизбыток для столь короткого фрагмента текста. Этот переизбыток может и должен показаться университетскому литературоведу неоправданным, потому что в дальнейшем повествовании они никакой роли не сыграют и уж точно не будут иметь отношения к ключевому (по крайней мере, внешне) событию рассказа — самоубийству Симора Гласса.
С точки зрения традиционного литературоведения художественное произведение представляет собой структуру (или органическую форму), все элементы которой взаимосвязаны. Ни один из них не существует сам по себе; он соотносится с общим, с ядром системы. Метафора «чеховского ружья», повешенного в первом действии на стену не случайно, поскольку в кульминационный момент из него выстрелят, удачно демонстрирует эту модель. Ценность детали определяется степенью наличия/отсутствия в ней общего для произведения смысла; она должна быть встроена в общий вектор, иначе она не является художественно значимой. Сэлинджер с этой точки зрения, подобно Э. Хемингуэю, совершенно антилитературен: его тексты представляют собой арсеналы нестреляющих «чеховских ружей», и приведенный отрывок весьма типичен для него. Относительно происходящих в рассказе событий деталь или действие вводятся без всякой на то видимой причины и не обусловливаются общим планом. Классицистическое требование правдоподобия нарушается, и предметы не выглядят эстетизированными — они остаются единичными, частными явлениями, не подчиненными общему, и соответственно не приобретают в тексте статуса образа. Этот прием был описан Роланом Бартом: «С семиотической точки зрения „конкретная деталь“ возникает при прямой смычке референта с означающим; из знака исключается означаемое, а вместе с ним, разумеется, и возможность разрабатывать форму означаемого, то есть в данном случае, повествовательную структуру…»[277] Подобный прием Барт называет «эффектом реальности»[278]. У Сэлинджера предметы выглядят, так сказать, чистыми, необработанными творческим сознанием. Я выделил слово «выглядят», ибо в действительности они обработаны и при этом самым тщательным образом, а «эффект реальности» остается именно эффектом.
Сэлинджер на первый взгляд возвращает предмету силу, отнятую у него антропоморфной культурой, в которой он идеологизируется, измеряется человеческими категориями и является слугой, придатком человека. Предмет обессиленный, окультуренный существует не сам по себе. Он лишен изначальной самодостаточности и всегда включен в систему — скажем, в художественное пространство. Здесь требуются не все его свойства, а лишь те, которые соответствуют смыслу, заданному властью, абсолютным авторитетом. Предмет деформируется, беднеет, теряет большинство своих смыслов, перестает быть смыслопорождающим центром, коим он изначально являлся. Концептуализация предмета, освоение его художественным сознанием традиционного литератора обнаруживает в себе момент репрессии и подчинения. В цельном предмете размечается схема, где есть главное и есть подчиненное. У Сэлинджера все наоборот: предмет выглядит не освоенным централизующим сознанием-властью. Он обретает чистоту, независимость и единичность вместе со способностью генерировать бесконечное число смыслов. Возникает иллюзия имперсональности данного участка текста (вспомним процитированный выше отрывок), его независимости от авторской идеологии и эмоциональности.
Мир рассказов Сэлинджера вполне зрим и осязаем. Писатель обращается прежде всего к зрительному восприятию читателя. Пространство, разворачивающееся перед нами, увидено, зафиксировано наблюдателем-автором, но не осмыслено. Автор кажется совершенно безучастным происходящему. В ранней поэтике Сэлинджера прослеживается столь популярное для литературы XX в. разведение зрения и умозрения, «ока и духа», о котором впоследствии будет писать Мерло-Понти[279]. Вместо концепций и схем нам предлагаются «чистые» предметы и участки реальности. «Внутреннее», глубинное вытесняется внешним, фактурным, объектным. Не случайно критики часто сравнивали рассказ Сэлинджера с драматическим произведением[280]: все его тексты легко поставить на сцене или экранизировать (что, кстати, неоднократно проделывалось). В рассказе «Лапа-растяпа» Сэлинджер даже идеально выполняет ключевые требования театра классицизма. Но во всех случаях мир выведен на сцену, объективизирован, представлен, но не объяснен. Его составляющие выглядят независимыми как от автора, так и от читателя-зрителя.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Феноменология текста: Игра и репрессия"
Книги похожие на "Феноменология текста: Игра и репрессия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Аствацатуров - Феноменология текста: Игра и репрессия"
Отзывы читателей о книге "Феноменология текста: Игра и репрессия", комментарии и мнения людей о произведении.